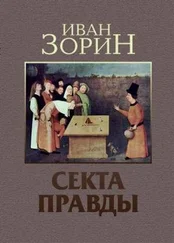− Мысли, как блохи: вычешешь — ни одной не останется, − делал ему укол врач, укладывая в постель.
Так состоялось второе жертвоприношение Исаака. Сара выложила на стол билеты, точно рассчитала заранее сроки, и стала привычно собирать чемоданы. На другой день Кац улетели. А дом остался. И Молчаливая несла крест своего безумия по руинам всеобщего. Точно забыв слова, оказавшиеся лживыми посредниками её любви, она стала говорить на непонятном языке, который вокруг называли языком печали. В нём преобладали мягкие согласные, а из гласных «е», «ю» и «я», так что он напоминал одновременно кошачий мяв, безутешный детский плач и жалобное завывание ветра. Братья Молчаливой пробовали его учить, но это оказалось делом безнадёжным, потому что слова в нём каждый день означали разное − в зависимости от того, светило ли солнце, шёл ли дождь, цвели ли под окнами туберозы, слушали ли в беседке музыку влюблённые или снег колотил в железные двери. И только выражавшее «любовь» оставалось неизменным. Молчаливая говорила также морщинами на лбу, жестами, перечёркивая воздух ладонью, если ей что-то не нравилось, долгим или беглым взглядом, но ни одно слово из прежнего лексикона больше не слетело с её губ. При объяснении с Сарой Молчаливая не выложила своего главного козыря, утаив, что беременна. Безумие не помешало ей с помощью севшей верхом на живот толстой акушерки, подпрыгивающей в диком галопе, родить в положенный срок крупного мальчика, который, точно мертвец, выходил вперёд ногами, перевернувшись в последний момент, но родовой травмы не избежал, оставшись на всю жизнь хромым. Заткнув пальцами уши, она смотрела на зеленоватое, лягушачье тельце, всё в мокрых складках, на маленький, сморщенный рот, надрывавшийся от крика − на сына, кровное родство с которым оборвалось вместе с разрезанной пуповиной, смотрела равнодушными, кукушкиными глазами, бормоча на своём непонятном языке слова, среди которых не было «любви». Она забыла о ребёнке, едва его унесли заспанные няньки, и, чтобы избавиться от молока, отвернувшись, стала кормить грудью бумажную куклу, которую накануне свернула из салфетки. С тех пор Молчаливая тихо бродила по дому с набитыми пряжей карманами и с отсутствующим взглядом грызла передними зубами нить, измеряя годы клубками, блуждая в лабиринтах своего безумия. А в её квартире, закупоренной, как бутылка, куда она неизменно возвращалась, приникая, как к единственно надёжному оплоту памяти, время остановилось − в ней всегда стоял тот хмурый, пасмурный четверг, когда она отказала Исааку. Хромого ребёнка назвали Яковом, и после того, как от него отказались единственные родственники − дяди, его усыновила Саша Чирин а . Случившееся подействовало на братьев Молчаливой. Но прямо противоположно. «Жить! Жить!» − жадно думал Архип, давно оставивший богословские штудии и пустившийся во все тяжкие. Теперь его часто видели в погребке сомнительной репутации, под который оборудовали полутёмный подвал, в обществе сестёр-близняшек, с которыми он расплачивался за услуги тем, что поил. Жмурясь, как кот, Архип слушал рыжего, усатого бармена с полотенцем через плечо и быстрыми волосатыми руками, продолжавшими орудовать с бутылками, пока он молол языком. Время всё разрушает, поворачивая вспять даже реки, и у соседей Изольды, молодожёнов, когда-то по ночам пугавших криками весь подъезд, произошёл разлад, сведя на нет и постель, и прожитые годы, и всю их семейную жизнь. Покинутый муж, в бесконечном унынии склонившись к стойке, заказывал уже третью бутылку, глядя на бармена остекленевшими глазами.
«Ты прожил с ней уже вечность, но и она прожила с тобой столько же и ни днём меньше, − подливая в рюмку, утешал его бармен. — Ты пойми, вид гомо сапиенс состоит не из мужчин и женщин, а из одиноких и пар. Холостяки, вдовы, незамужние, разведённые, бобыли и девицы составляют первое семейство, а женатые и замужние — второе. И они отличаются гораздо сильнее, чем мужчины от женщин. — Сняв полотенце, бармен стал вытирать бокалы, проверяя их чистоту на свет. — Первые, как кошки, гуляют сами по себе, вторые — как сиамские близнецы. Потому что супруги с годами срастаются, меняясь местами, жена всё больше становится мужчиной, муж — женщиной. У этих семейств разная психология, разные болезни, разные жизнь и смерть. А принадлежность к ним определяется не брачным свидетельством, а природой. Оказаться не в своём семействе − всё равно, что не в своей тарелке. Горе такому! Хуже, чем кошке в собачьем царстве! А жена вернется, не бойся. Без тебя она отдыхает от мужа, с тобой — от себя».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу