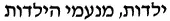
— детство, радости детства
Даже когда Казик становился невыносим (см. статью детство ), старый доктор тем не менее старался угодить ему и любым способом подсластить и украсить его жизнь. Изо всех сил пытался припомнить, что может доставить шалуну удовольствие, то есть что доставляло удовольствие ему самому, когда он был ребенком. Главное, что ему представлялось необходимым оживить в памяти, это приятные минуты, проведенные с отцом, который в первые годы жизни Фрида еще не был столь строг с ним и не считал своим долгом лишь готовить его к будущей жизни, последовательно лишая всякой радости в настоящем, то есть в самой этой жизни. Именно поэтому в двадцать два тринадцать, когда Казику было три года и три месяца, Фрид взбил у себя на щеках кисточкой мыльную пену и скоренько побрился — только ради того, чтобы позволить Казику потереться о свою гладкую распаренную кожу и вдохнуть приятный запах. Но и этого показалось ему недостаточно: он выключил свет во всех комнатах и рассыпал по полу несколько мелких монет.
Фрид: Это, конечно, выглядело немного глупо, стыдно даже признаваться, но тому была определенная причина: мой отец возвращался обычно с работы поздно вечером, когда я уже лежал в своей кроватке, и, укладываясь спать, постоянно умудрялся таким образом снять брюки, что из карманов выскальзывало несколько серебряных монеток, которые со звоном раскатывались по полу, и я всегда с замиранием сердца ждал этого звука.
Господин Маркус: Да, наш уважаемый Фрид, можно сказать, не щадил своего живота, пытаясь развеселить и порадовать бедного мальчика. Не раз я наблюдал, как он, забыв обо всех досаждавших ему болячках и недомоганиях, с нежностью боролся на ковре со своим маленьким кусачим львеночком, осторожно заводил его маленькую лапку назад и требовал, чтобы тот продекламировал текст традиционной семейной капитуляции…
Фрид: «Ныне я провозглашаю этим полную и безусловную капитуляцию перед моим отцом и господином, личным врачом герцога…»
…а потом ставил его крошечные ножонки на свои громадные мосластые ноги и вышагивал с ним по всей комнате, напевая…
Фрид: Спи, мой мальчик, засыпай, глазки ясные смыкай…
…а когда Казик принимался смеяться своим серебристым рассыпчатым смехом, Фрид, может быть впервые в жизни, чувствовал, что он сделался настоящим доктором Айболитом.

— творчество, произведение, 1) создание чего-то принципиально нового; 2) творение, итог работы мастера, художника.
В разгар отчаянных пререканий между Вассерманом и Найгелем (см. статью западня ), когда немец требовал от сочинителя изменить свое произведение так, чтобы в нем не осталось никакого антигерманского душка, никаких высказываний и намеков, порочащих Третий рейх и обожаемого фюрера, Вассерман признался редакции, что на протяжении почти всего этого периода, то есть большинства стадий создания повести, он и сам не вполне отдавал себе отчет в том, какие опасные подводные камни разбросаны на страницах его рассказа. Он клялся, что долгое время вообще не имел представления, для чего Сыны сердца собрались на этот раз вместе и с кем они собираются воевать. Чувствовал только, по его собственному признанию, что обязан «швырнуть душу свою на алтарь борьбы, отдаться этому целиком и не щадить живота своего» (ох уж эта патетика дедушки Аншела!), чтобы удалось ему наконец «вспомнить и возродить весь этот рассказ, который по природе своей всегда забывается».
Вассерман:
— Ай, Шлеймеле, ведь и до сих пор не ведаю я, каков будет его конец, но теперь есть во мне искра, знаешь, наподобие укола, ожог такой, особое томление и вожделение, которые знают и провидят все прежде, чем сам я могу ощутить. Эта искра скачет во мне от буквы к букве, от слова к слову и зажигает весь рассказ, как свечи в ханукальном светильнике… А ведь прежде не знал истиной мудрости писательства, в самом деле так: потому что искры этой не было во мне… И вожделение сочинительства таилось от меня. А теперь — гляди-ка! — драгоценный свет! Теперь знаю, что даже такой шлимазл, как я, ничего не сделавший в своей жизни и ничем грандиозным не поразивший человечества, не герцог и не наместник, не великий стратег и не Дон Жуан даже — за милыми девушками не ухаживал и соблазнять не пытался, — сердца глаголом не жег, срама мира не раскапывал и не вынюхивал, вообще, простой такой еврей, но все-таки и во мне нашлась капелька сдобного теста, достаточная для того, чтобы испечь что-нибудь вроде баранки, которой Найгель, не приведи Господь, беспременно подавится. «Берегись, Найгель! — сказал я ему в сердце своем. — Берегись! Писатель я, Найгель!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
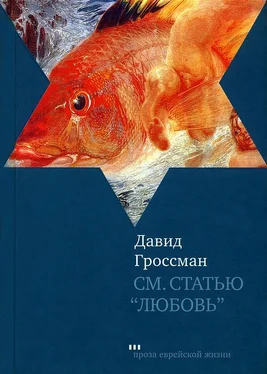
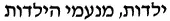



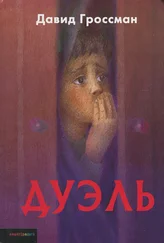


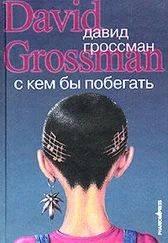

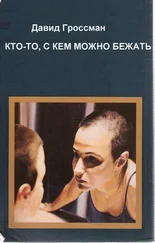

![Давид Гроссман - Будь ножом моим [litres]](/books/432501/david-grossman-bud-nozhom-moim-litres-thumb.webp)
