Состав уже близко. Паровоз пыхтит все глуше и реже и вкатывается на территорию лагеря почти бесшумно. В странной напряженной тишине транспорт скользит по рельсам. Только когда машинист тянет на себя тормоз, слышен визг колодок, летят искры. Теперь начинают мелькать воспаленные глаза в щелях дощатых «намордников», набитых на окна. Находящимся внутри открывается ухоженный лагерь, приятный чистенький центральный бульвар со скамеечками и нарядными цветочными клумбами, солидные таблички: «К станции», «В гетто», указатели в виде стрелок, на которых изображен маленький смешной еврей, эдакий сгорбленный очкарик, зажавший в руке крошечный игрушечный чемоданчик.
— Залмансон, чтоб он был мне здоров, говорил, что этот еврей как две капли воды похож на меня, — вздыхает Вассерман.
Они начинают выпрыгивать и вываливаться из вагонов, в каждом вагоне их сотни, украинцы поторапливают их окриками и ударами дубинок. Прибывшие в шоке. Окоченевшие от долгого пути, который из-за жуткой тесноты им пришлось проделать стоя, они еще не размяли затекшие ноги и просто не в состоянии как следует двигаться. Их жалкая одежда, успевшая обветшать за месяцы и годы, проведенные в гетто, еще прикрывает их тела, но Вассерман уже видит их голыми. Они еще совершенно живые, но для него они уже трупы, бездыханной грудой сваленные друг на друга. Через самое непродолжительное время у них будет отнято главное — их живая душа, останется только огромная гора тел, которые в свою очередь… Уткнувшись носом в только что выдолбленную лунку, он испускает тяжкий глубокий стон, словно выплескивает избыток горечи в утробу земли. Слез у него уже не осталось.
Он возбужден и без умолку говорит. Говорит сбивчиво, торопливо, испуганно, пытается перекрыть своим голосом все прочие звуки и голоса. В такие минуты он предельно откровенен, не страдает ни застенчивостью, ни стыдливостью, все тормоза отпускают.
Саре было двадцать три года, когда они встретились.
Вассерман:
— Ну, что можно было поделать? Через четыре недели мы поженились. Залмансон был моим свидетелем.
Хупу — свадебный балдахин — поставили в доме у Залмансона. Циля, его жена, пригласила множество друзей и знакомых.
— Поверь мне, Шлеймеле, я не знал почти никого из гостей. Да что там — я и с невестой-то едва был знаком!..
Но выясняется, что супружество оказалось на редкость удачным. Десятилетия упорного мрачного одиночества и добровольного затворничества разлетелись в пух и прах, рассеялись в мгновение ока, когда внедрился в них раскалывающий скалы корень этого удивительного растения — потребности в другом человеке. В своей родной семье Сара давно была объявлена старой девой. Отец ее уже отчаялся и не верил, что ей когда-нибудь посчастливится выйти замуж. По его мнению, главный ее недостаток состоял не в отсутствии женской привлекательности (ерунда, не хуже прочих!), а в начитанности и «учености». «Кто захочет жениться на эдаком ешиботнике? Ты не девица, ты ешива-бохер!» — кричал возмущенный родитель, когда видел ее портящей свои нежные глаза над книгой. Это был человек энергичный, стремительный, достаточно грубый, вечно раздираемый мелочными, но клокочущими и перехлестывающими через край страстями, однако по-своему Добрый и преданный. Он любил свою дочь и жалел ее. Сознавая, что лучшая партия ей не светит, скрепя сердце согласился на ее замужество с Вассерманом, этим уродом и горбуном, который к тому же — стыд сказать! — почти его ровесник. Вассерман сухо и холодно сообщил мне, что медовый месяц (в сущности, одну только неделю) они провели в Париже. Насколько я понимаю, трудно было сыскать более не подходящее для них обоих место. Париж выбрал отец невесты. Он же оплатил свадебное путешествие, по-видимому, в надежде, что город сияющих огней и вечного праздника, законодатель мод и рай для влюбленных, отбросит капельку своего дивного блеска на эту унылую пару: слишком застенчивых и не в меру серьезных молодоженов. Вассерман категорически отказывается говорить об этой неделе в Париже. Я могу только догадываться, что в те часы, когда они робко пробирались по шумным бульварам, опасаясь потерять друг друга из виду, он не ощущал ничего, кроме отчаяния и бессильной злости на себя за свой опрометчивый непоправимый поступок, за то, что сам, своими руками, сделал из себя клоуна, изменил своему удобному и безопасному одиночеству, своему неизменному, полному глубокого смысла молчанию и тому прекрасному согласию, которое существовало до тех пор между ним и его жизнью.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
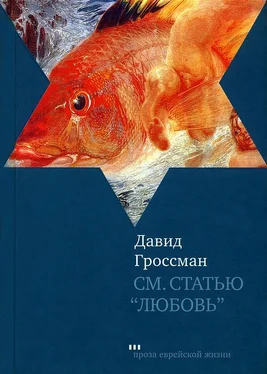


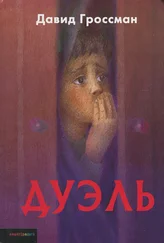


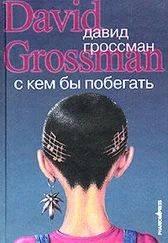

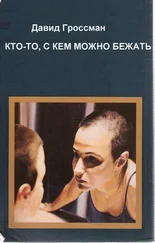

![Давид Гроссман - Будь ножом моим [litres]](/books/432501/david-grossman-bud-nozhom-moim-litres-thumb.webp)
