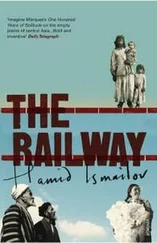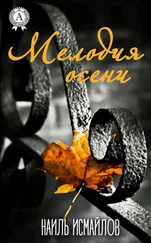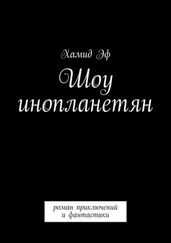Город очнулся от зимы ледяной, вдруг ярким стал, как на открытке цветной, только не думай, что все это меня очень радует.
Песня мерцала непонятно откуда, как будто кто-то из загробных объявляющих забыл выключить систему подземного оповещения, слушая свой транзистор, или же кто-то сумасшедший ходил за нами по пятам с этим самым транзистором или магнитофоном, прячась за массивными то ли колоннами, то ли быками моста.
Нам было негде жить, мама моя, Москва, маясь между писателем и милиционером, не пристала ни к одному, а еще раньше сбежал от нее спортсмен, и я не то чтобы осознавал, но догадывался (а ведь догадка пуще знания!), что не в трех станциях, и не в трех соснах заблудились мы, а в жизни своей: между телом, уложением и духом. Так я думал о ее мужьях — Спортсмене, Милиционере и Писателе. Мать истово, как будто убегая от чего-то, вела меня к переходу, и мы без единого слова мчались в скользкую трубу, а из-за наших спин неслось: «Только я помню, что лицо наклоня, ты говоришь мне, что не любишь меня. И возвращается сентябрь, и опять листья падают.»
Мама страшно кашляла вот уже несколько месяцев, после того, как Первого мая мы пошли в парк Горького, а там начался дождь, и мы не знали тогда, что дождь этот из чернобыльского облака: мама сняла с себя легкую курточку и набросила на мои черные кудри, а сама осталась в шифоновой кофточке. Вот и теперь она кашляла, пытаясь ускорить шаг и убежать от этой тягучей, вязкой, неотвязной песни. И так она устала, что лишь достигли мы зала станции «Площадь Свердлова», как тут же села в выемку пилона под светлой лампой над головой.
От прохлады светлого мрамора кашель мамы успокоился. Мы сидели, вдыхая в себя этот извечный запах московской заболоченной сырости, смешанный с обильным креазотом — запах московского метро, и мамины легкие успокаивались от пришлого радиоактивного вторжения. «Бардо Тодоль» говорил о падениях, о переходах, о тоннелях, и я сидел рядом с мамой и расставлял наши три станции в определенный порядок, как иной мальчишка играл бы в моем возрасте в кубики: от пламенного теоретика революции к унылому и заурядному ее практику, а потом к ней самой — революции. Эти три станции, как ни кинь, — все одно выпадают в некий смысл, недоступно мерцающий впереди, но бойся тусклого, мерцающего света, говорила книга, и ей вторила липучая песня:
Там я остался, где дрожит в лужах вода,
где, как праздник, миг любой,
где с тобою мы не можем друг без друга.
Говорят, этим трем станциям изменили названия на «Охотный Ряд» — «Театральную», оставив «Площадь Революции», но смысла того же не лишили: от охоты через представление к революции — все та же триада, в которой путалась со мною моя бедная мама Москва тем сентябрем. Ведь как ни кидай эти фишки — бог Энке, ее косматый, как Маркс, отец, вел взбалмошную свою дочь Инанну через чистилище ее подземной сестры Эрешкигаль, и лишь я один — оплеванный петухом-айной и недолепленный Худаем человек ли, чертенок ли, Пушкин, — догадывался о том, что происходило в нас, с нами, вокруг нас. Ведь догадка пуще знания, и вы помните, как я вспоминал о рассказе дяди Глеба, коим он проклял нас с мамой. Так вот, теперь его писательская догадка превращалась в нашу жизнь, и мы переживали ту ее часть, когда перед самой школой нам было предписано поселиться у сумасшедшей проститутки в Марьиной Роще.
Я смотрел на стрельчато-хиазматические своды станции, в которых вафельная квадратность рисунка была сменена на угловатую ромбовость, а лампы, подпиравшие свет факелами снизу, теперь свисали на конусообразных подвесках с потолка, и соотносил эту смену форм с дорогой от Союза писателей к Книжной лавке и дорогой от Академии МВД к станции «Войковская», перебирая каждый шаг этих двух дорог, вышагиваемых мною то с дядей Глебом, то с дядей Назаром. С дядей Глебом мы шли по Воровского вниз, переходили на Герцена, далее мимо чудного магазина «Театр», спрятанного в жилом доме, — единственное место в Москве, где можно было купить пустотелые куклы, надевавшиеся на руки и оживавшие при этом. Именно такие три куклы купил мне однажды на день рождения дядя Глеб, и мы втроем — он, мама и я, надев эти куклы на руки, разыгрывали комедию перед нашей кошкой Кити. До и после этого магазина по пути встречались посольства, но меня больше волновал дом Горького — каменное отражение переделкинских деревянных дач, — у которого бездомный квартиросъемщик дядя Глеб неизменно вздыхал. Мы пересекали тассовскую площадь, и пока я разглядывал невиданных размеров портреты Горбачева и его счастливой жены, дядя Глеб перебегал улицу и в продуктовом магазине напротив умудрялся опрокинуть по блату стопку горячительного, и мы шли дальше по Герцена, чтобы у самой консерватории свернуть на Огарева, где — вот ведь совпадение! — простиралось огромное желтое здание МВД, к которому приводил меня позже с другого конца дядя Назар, но мы с дядей Глебом никогда не останавливались и не разглядывали это нарядное здание, а, как правило, уходили влево, на переговорный пункт, откуда звонили то его, то маминым родственникам.
Читать дальше