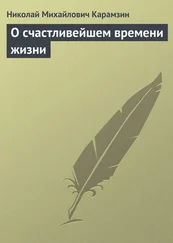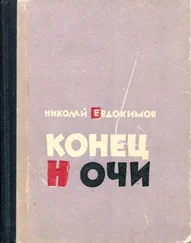Могилку он выкопал недалеко от Никанорова, хорошую, просторную для такого хрупкого тельца, обложил ветками — пусть ей будет уютно, посидел над вырытой ямой и пошел за Варварой.
Он поднял ее на руки, она стала еще легче, чем была, когда он нес ее, вытащив из-под обломков. Неужели оттого, что душа выпорхнула из тела? Душа ведь, наверно, легка, как птичка. Но едва он сделал несколько шагов — оглушающе завыла милицейская сирена, показались огни двух приближающихся машин, свет фар выхватил из сумерек Карюхина с Варварой на руках.
Дальше все было как в дурном сне. Какие-то люди осматривали труп, что-то измеряли, чертили на земле, другие велели Карюхину и Варфоломееву показать место, где они нашли Варвару-самозваную, и там тоже что-то измеряли, потом осматривали карюхинскую хижину, фотографировали следы крови, все перерыли, затем, уже в темноте, собрали здешних насельников, вызвали автобус, загнали в него всех и повезли в город, в отделение милиции.
…За ночь и день, проведенные в милиции, он утратил не только ощущение времени, но и чувство реальности. Душевная пустота, равнодушие поселились в нем, да и осознать, что все это происходит с ним, с Карюхиным, было невозможно. Он ли это, окончательно униженный, раздавленный?
Его допрашивали, не давая передохнуть, то были вежливы, то угрожали, он быстро привык, повторяя без конца одно и то же: где и как нашел Варвару-самозваную.
— Не бреши! — кричал капитан, молодой человек, куривший одну сигарету за другой и уже охрипший от крика. — За кого ты нас держишь? За дураков? Как это возможно, чтобы человека с мусором вывезли на свалку? Как? Ковшом зачерпнули? Ясно, что ты ее изнасиловал и убил. Ты, сволочь! Кровь повсюду, платье разорвано, вся в синяках баба. Не упирайся, правду говори!
И он говорил правду, в который раз повторяя, где и как нашел ее.
Потом его били. Капитан и два сержанта молотили чем попало — кулаками, сапогами, палками по голове, ногам, спине. От боли он потерял сознание, его приволокли в общую камеру, бросили на пол. Очнулся он от холода. Хотя в камере было душно, он дрожал в ознобе.
— Оклемался, сука? — услышал он. — Вставай, сволочь, — кричал капитан.
— Начальник, — сказал Лапушкин, — не ори. Что вы сделали с человеком? Вы что, не люди?
— Заткнись, гнида лагерная, — капитан замахнулся, но не ударил. — Мразь помойная.
— Не ори, начальник, — повторил Лапушкин. — Я на зоне ору наслушался. Заткнись. Не имеешь права и не ори.
— Ну, сука, я тебе покажу права! Опять на зону захотел? Быстро спровадим. Коклюшкин, Аванесов, — приказал он сержантам, — отведите его в туалет. Вонь от него, обложился, что ли? Только вежливо, вежливо, у него права…
Милиционеры подхватили Лапушкина под мышки и поволокли из камеры.
Карюхин попробовал приподняться, но не смог — боль пронзила.
— Вставай, разлегся тут! Ну, пес вонючий, вставай!
— Пес?!
Карюхин получил удар сапогом по голове, взвизгнул от новой боли, показалось ему, что снова теряет сознание, все поплыло перед глазами, но он сумел преодолеть себя, с трудом встал на четвереньки и вдруг ощутил такую ярость, что завыл уже не от боли, а от гнева. Завыл и…
…завыл — и какую же легкость вдруг испытал, упершись лапами в пол! Почувствовал, как выгнулась спина, шерсть поднялась дыбом, загривок будто вспух, он поджал упругий хвост, вытянув морду, зарычал от ярости, ликуя, что свободен, что готов вцепиться в горло стоящему перед ним человеку, пахнущему диким зверем, и прыгнул, но тот отпрянул в страхе, упал, спиной распахнув дверь камеры. А за ней — лестница, двор и воля.
Он мчался по улице, поджав окровавленную лапу, превозмогая боль, не сознавая, куда бежит, — лишь бы подальше от проклятого милицейского здания. Сначала ему казалось, что за ним гонятся, и он боялся остановиться даже на мгновение. Потом понял, что ушел далеко, сел и стал вылизывать раны.
А позднее, блуждая по городу, неожиданно вышел к широкому мосту над рекой. Как знакомо она пахла! Ему казалось, что когда-то, еще щенком, он брызгался в этой — или в другой? — реке. И будто вспомнил, что белобрысый мальчик держал его на руках, гладил и называл ласковым, забытым ныне именем Карюха. От той реки пахло влажной травой, кувшинками, тростником, и в этой можно было уловить те же давно забытые запахи воли: аромат лесов, лугов, сладких соков плакучих ив. Когда это было? И было ли? Кто тот мальчик, который ласкал его? Вырвавшись, он барахтался в воде, потом отряхивался на берегу, брызги летели с шерсти, искрясь на солнце, мальчик смеялся, убегал от него, а он гнался за ним, визжа от восторга.
Читать дальше