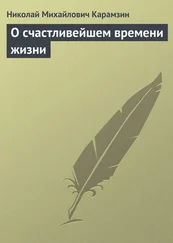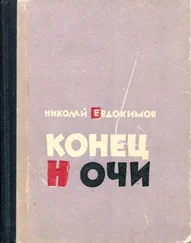От зрелища дерущихся крыс, от космического света, текущего из небесной глубины, словно снег из бесконечной высоты, а может быть, оттого, что самосвалы ушли и наступила пугающая тишина, Карюхина охватила зябкая гнетущая тоска. Он никогда еще так не ощущал своего одиночества, бессмысленности и ненужности своей жизни. Что ждет его впереди? Ничего хорошего. С грустью он подумал, что, если и есть где ему место, так это дома, на родном пепелище.
Эта лунная мутная ночь напомнила ему другую, тоже освещенную луной, но не такую густую и зловещую. Та ночь была прозрачна, проникнута теплом, запахом полей и леса, отдыхающих от дневного солнечного зноя. Он возвращался из деревни Лыково, где из-за забора любовался, прощаясь, драгоценной своей Варварой-пухлощекой. Он винил себя, что не сумел сберечь ее любовь, которая сгорела вместе с его избой, хотя нет, нет, не сгорела, а по-прежнему пылала в его опрокинутом сердце. Все у него не сладилось — и с любовью, и избу он не сумел сберечь, и хозяйство, где зарабатывал себе на жизнь и остался без надежды и веры в лучшее. Он шел через хоздвор, мимо умирающего комбайна, возле которого два последних трактора уже превратились в металлолом. Откуда-то с лаем выбежал Полкан, узнал Карюхина, еще раз полаял для порядка, повилял хвостом и ушел. Из коровника пахло гниющим навозом, где-то в глубине, покачиваясь, звякал забытый доильный аппарат. Ныне здесь, в пустом коровнике, жила только корова Маруся, одинокая, старая, которую хозяин «Благодати» оставил за бесполезностью, угнав все стадо на бойню или на базар, чтобы хоть как-то возместить деньги погибшего ООО. Маруся жила самостоятельной жизнью, днем паслась на лугу, вечером возвращалась в коровник, где навещала ее сердобольная тетка Нина. Услышав шаги и запах человека, Маруся издала нечто похожее на мычание, и Карюхин, подойдя, увидел в лунном свете большие ее глаза. Ему показалось, что боль была в этих глазах, тоска, печаль, мольба. О чем мольба? Он обнял ее голову, сказал:
— Как же жить теперь, Маруся?
Маруся промычала что-то, не промычала даже, а простонала тихо, жалобно вздохнув.
Он не мог забыть этого вздоха в светлой прекрасной лунной ночи, наполненной жизнью земли, деревьев, звезд. Два живых существа — человек и животное поняли друг друга и стояли, прижавшись, одинокие, забытые теми, кого любили.
Это воспоминание, это ощущение одиночества, тревоги пронзили Карюхина: как он устал от такой пустой жизни. И совсем ему жутко стало оттого, что Элиза, вдруг задрав голову, завыл на луну пронзительно, не своим голосом, визгливым каким-то, щенячьим, а через мгновение этот детский визг сменился долгим волчьим завыванием. Весь напрягшись, Элиза вытянул шею, подняв морду, словно его тянули за невидимый ошейник, а он упирался лапами, сопротивляясь. Что-то в этой его позе и в жутком вое было пугающее, странное, будто какая-то сила влекла его туда, ввысь, к лунному светилу, и, казалось, Элиза вот-вот оторвется от земли и улетит навстречу настойчивому зову, слышному только ему одному. Кто его звал? Откуда? Куда? И сил у него не было сопротивляться этому зову. Он выл пронзительно, словно плакал.
— Не надо, Элиза, не вой, пожалуйста, — сказал Карюхин.
Он погладил Элизу, пес взвизгнул, захлебнувшись, лизнул его руку, затих и, выгнув спину, уткнулся мордой в землю. В этой позе было столько покорного трагизма, что Карюхин сказал виновато: «Прости меня» — и в наступившей тишине услышал чей-то пронзительный, обреченный стон. Кто-то стонал или плакал, дите малое или женщина.
Он пошел на этот стон и понял, что звук доносится из-под груды кирпичей, бревен, бетонных плит, наваленных здесь самосвалами. Стал разгребать кирпичи, откидывая в сторону, оттаскивать бревна, но бревна были тяжелые, не поднять, к тому же завалены трубами, какими-то металлическими стержнями. Он скоро понял: одному ему не разворотить всю эту кучу и побежал звать хоть кого на помощь. Он кричал, но никто не вылез из своей норы, никто не отозвался: храпели, наверное, после вечерней пьянки. Карюхин опять побежал туда, откуда раздавался стон.
— Потерпи, — кричал, — потерпи!
Однако оттуда, из-под кучи мусора, уже ничего не было слышно. Правда, один раз, остановившись передохнуть, он все же уловил то ли прерывистое дыхание, то ли вздох и понял, что разгребает руины сгнившего дома — оконные рамы, двери, деревянный лестничный пролет. Наконец, подо всем этим он увидел женщину. Она лежала, скорчившись, лицом вниз, но Карюхин узнал ее по платью — узкому длинному, в разноцветных цветочках балахону, в котором видел в вагоне эту женщину распевающей жалобную песню про любовь. Это была Варвара-самозваная. Он хотел ее приподнять, но ноги ее были придавлены тяжелой плитой, которую сдвинуть ему было не под силу. И снова побежал он звать на помощь, и нашел Варфоломеева, который вылез из своей норы и, зевая, мочился. Вместе с ним они с трудом отвалили плиту.
Читать дальше