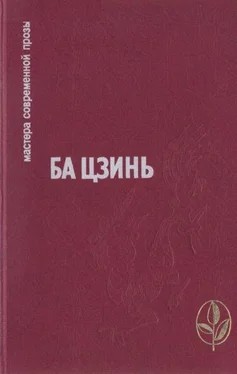— Не знаете, сколько еще лет китайский народ будет нести бремя контрибуций по «Боксерскому протоколу»? Ну так вот, все это время я как раз занимался исследованием этого вопроса.
Он сразу изменился в лице, помедлил было секунду, но потом резко повернулся и, не обращая больше на меня внимания, вошел в театр. По-видимому, мои слова сильно задели его.
После этого я долго не был у него. Через несколько месяцев он снова дал знать о себе письмом, но на этот раз то была просто лаконичная записка, совершенно непохожая на прошлое письмо. От нее веяло настоящим чувством: угадывались грусть и меланхолия автора. Он выражал надежду, что я выберу время навестить его, что я еще не совсем отдалился от него.
Через неделю, проходя мимо его дома, я решил зайти.
В этот день у него не было занятий. Он лежал на софе в халате и с отсутствующим видом перелистывал страницы какой-то английской книжки.
— А, пришел. Молодец! — Он устало улыбнулся и отложил книжку в сторону. Я бросил взгляд на обложку — рассказы Чехова в переводе на английский.
Перехватив мой взгляд, он пояснил:
— Несколько дней читаю только Чехова. Страшно интересно! Прекрасные вещи, тебе тоже не мешало бы почитать.
Усевшись, я собрался было ответить, но вдруг необъяснимое отвращение вновь овладело мной. Вызывающе и даже, может быть, излишне резко я бросил:
— Вам нравится Чехов? А знаете, вы сами очень напоминаете героев чеховских рассказов!
Он машинально кивнул, но тут же, видимо поняв свою оплошность, замотал головой:
— Нет, нет! — И испуганно взглянул на меня, как будто я раскрыл какую-то неприятную тайну.
— Значит, даже вам не нравится быть героем чеховских рассказов? — наседал я на него.
— Зачем ты все это говоришь? — ответил он вопросом на вопрос.
— Целыми днями сидеть дома, рассуждать о событиях столетней давности, верить во все существующее, подчиняться капризам судьбы, не стремиться к переменам в жизни — разве не в этом суть характеров чеховских героев?
Ему нечего было ответить. Лицо его исказила гримаса боли. Явно избегая моего взгляда, он опустил глаза. Прошло немало времени, пока он наконец поднял голову и с бессилием и безнадежностью взглянул на меня.
— Может быть, ты и прав, — чуть ли не со стоном выдавил он из себя. — Это конец, конец для таких людей, как я.
Забыв про сунские вазы, про дневники Юаня, про средневековые стихи, про жизненные концепции писателей Минской эпохи, про «Боксерские контрибуции», он только сейчас сказал правду: признался, что это — конец. Во мне поднималось чувство горечи и как будто сострадания, казалось, я стоял перед открытым гробом, куда только что положили покойника.
— Не вижу, ничего не вижу из своего кабинета. О… — бормотал он, дав волю чувствам. Видно было, что ему трудно говорить; он словно боролся сам с собой. Возможно, он расставался со своими иллюзиями. Указав на прекрасные книжные шкафы, он произнес: — Все они! Я вижу только их. Я знаю только… прошлое. Меня окружает одно только прошлое. Все — мертвое, я говорю только с мертвецами и повторяю их слова… — Голос его сорвался на рыдания, и неожиданно для себя я заметил на его глазах слезы. Слезы на его лице! И он даже не вытирает их! Я впервые увидел его плачущим и смягчился.
— И вы не можете изменить вашу жизнь? — сочувственно спросил я, думая, что ему будет легче исправить свою ошибку, если он осознал ее.
— Изменить жизнь? И ты говоришь об этом с такой легкостью? — произнес он с горечью в голосе. — Я всеми корнями врос в эту обстановку. Для меня это — конец. Я могу жить только таким образом. День за днем эта жизнь затягивает меня все глубже. Я падаю и не могу…
Внезапно он умолк, спазмы сдавили ему горло. Он задыхался, глаза его говорили об отчаянии и беспомощности. Слезы катились по щекам, попадая в приоткрывшийся рот, он глотал их.
Наступило тягостное молчание. За окнами во дворике тоже было тихо; даже не слышно было ветра. Тишина эта была ужасной. Казалось, все живое замерло, весь мир затих, как перед ураганом.
Я сидел напротив него. Его учащенное дыхание отдавалось в моем сердце. И ничто не прерывало этих звуков, словно во всем мире только и было живого что это прерывистое дыхание, беспомощное дыхание отчаявшегося человека. Как это было страшно! Воздух в комнате показался мне тяжелым — он давил все сильнее, сгущался, и я вдруг почувствовал, что мне тяжело дышать. Я слышал биение своего сердца. Я был словно в склепе. «Как он еще может дышать по-человечески, — подумал я, — если целыми днями, замурованный здесь, слышит только стук своего сердца и читает произведения давно истлевших авторов?» У меня больше не было ни тени сомнения в его будущем. В ушах звучал решительный, словно приказ, голос: «Для него это — конец, неотвратимый конец».
Читать дальше