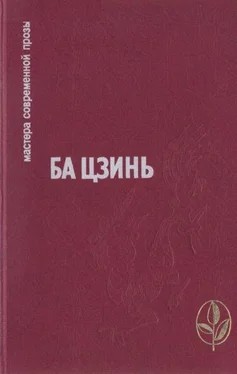Да, мне часто казалось, что голова его занята какой-то мыслью. Я проучился с ним почти три года и все это время видел его постоянно погруженным в свои мысли. Однажды я не удержался от вопроса:
— Пэн, о чем ты думаешь целыми днями?
— Тебе не понять, — холодно ответил он и, повернувшись, ушел.
Он оказался прав: я действительно не понимал. Почему человек в его возрасте должен быть таким мрачным, не похожим на других, почему он должен отказываться от всех удовольствий и замыкаться в собственных мыслях — этого я не мог постичь. И именно потому, что все это казалось мне странным, я еще больше стремился разобраться в Пэне. Теперь я стал внимательнее следить за его поведением, интересоваться книгами, которые он читал, присматриваться к его друзьям и знакомым.
Но друзей у него, кроме меня, по-видимому, не было. Разумеется, он был знаком кое с кем, но никто не жаждал поддерживать с ним дружбу, да и сам он не имел желания заводить друзей. С кем бы он ни заговаривал, его лицо всегда оставалось каменным. Даже студенткам он не улыбался, когда они с ним заговаривали. И ко мне он относился очень холодно, хотя мы с ним были уже достаточно знакомы. Мне казалось, что из-за этого он и не нравится мне.
Ознакомившись с книгами, которые он читал, я нашел, что читает он совершенно бессистемно, причем много и таких книг, об авторах которых я никогда не слыхал. Некоторые из этих книг годами лежали на книжных полках в библиотеке, и никто не спрашивал их. А Пэн читал все подряд: сегодня — роман, завтра — философский трактат, потом переходил к истории. Откровенно говоря, понять его, судя по той литературе, которую он читал, было тоже нелегко: я не мог знать содержания этих книг. Для этого мне пришлось прочитать бы их от корки до корки.
Однажды вечером Пэн неожиданно зашел ко мне. Мы не виделись более двух недель. В том семестре я жил уже на частной квартире, снимая поблизости от университета удобную комнату. Она находилась в верхнем этаже дома, и из окна ее открывался вид на университет, улицу перед университетом и недавно открывшуюся площадку для гольфа.
Войдя, Пэн бесцеремонно опустился на софу, обитую светлой материей, и прямо на нее стряхнул пыль со своего старого, поношенного халата. Некоторое время он молчал. Я ждал. Оторвав голову от книги, которую я читал, я взглянул на него и вновь уткнулся в книгу. И все же меня все время преследовала мысль, что на моей новой софе сидит Пэн в старом, грязном халате.
— Ты не знаешь, Чжэн, сколько сейчас в Китае рабов? — спросил он вдруг своим обычным глухим голосом.
— Да несколько миллионов, — ляпнул я, не задумываясь. Я и сам не знал, точна ли эта цифра: просто несколько дней назад я слышал ее от одного из приятелей. Меня этот вопрос никогда не интересовал.
— Несколько миллионов? Да нет, в действительности десятки миллионов. — В его голосе послышалась горечь. — Если понимать слово «рабство» шире, можно сказать, что, пожалуй, больше половины китайского народа — рабы.
«Уж во всяком-то случае сам я не раб, — подумал я самодовольно и, подняв голову, взглянул на Пэна. — Почему он такой грустный?»
— А у тебя есть рабы? — спросил он вдруг без обиняков.
Я подумал: если он презирает меня за то, что у меня нет рабов, он ошибается — ведь у меня шестнадцать рабов. На губах моих заиграла улыбка удовлетворения, и я высокомерно ответил:
— Такие люди, как я, конечно, имеют рабов: дома на меня трудятся шестнадцать рабов!
Он холодно усмехнулся и бросил на меня взгляд, полный презрения. В его глазах я не видел ни уважения, ни восхищения. Вопреки ожиданию он выказывал пренебрежение к человеку, владеющему шестнадцатью рабами. Я изумился, я отказывался верить собственным глазам и ушам. Я не понимал, почему он так смотрит на меня. Внезапно меня осенила мысль: возможно, он ведет себя так странно из зависти, ибо, судя по его материальному положению, у него, конечно, не могло быть рабов. И тогда я спросил его с сочувствием и жалостью:
— У тебя в семье, наверное, тоже есть несколько рабов?
Он снова посмотрел на меня, но на этот раз его взгляд был преисполнен гордости.
— Мои предки были рабами! — сказал он с таким достоинством, словно говорил о каких-то заслугах.
Я пришел в еще большее изумление:
— Не может быть! Зачем ты прибедняешься? Давай начистоту — ведь мы же друзья.
— Прибедняюсь? А к чему мне прибедняться, — удивился он, будто я сказал что-то необычное.
— Но ведь ты ясно сказал, что твои предки были рабами, — пояснил я.
Читать дальше