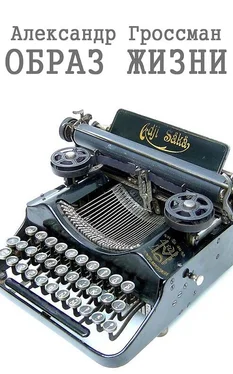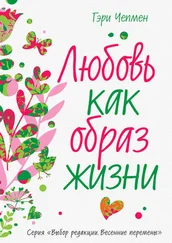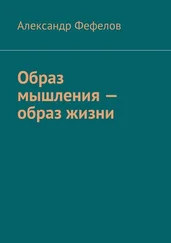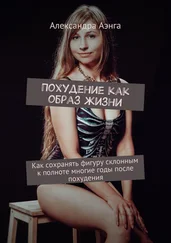К воскресному обеду Зинуле понадобилась свежая зелень, и мы, с утра пораньше, отправились за снытью и молодой крапивой. Катя бежала впереди, останавливалась, ждала нас с Петром и снова бежала.
— Я предложил Ирине сплавиться по Десне, и она согласилась, — сказал Пётр. — Присоединяйтесь.
— Почему Десна? — спросил я.
— Знакомая речка. У нас военные лагеря были на Десне. Несколько раз возил офицеров на рыбалку с ночёвкой. Тихая тёплая вода, нежный белый песок, ласточки в синем небе. Хватит?
— Заманчиво. Вчетвером?
— Да. Как раз на одну лодку.
Он замолчал. Была у него такая привычка: уходить в себя и улыбаться своим мыслям. Я напомнил о себе.
— Мы из лагерей ходили в соседнюю деревню. Стоим как-то со знакомой дивчиной у её дома, травим какие мы из себя бравые ребята, танкисты… Тут из-за плетня высовывается бабуся и так смачно: «Манька, сколько раз говорить? Кто жопы у тарелок мыть будет?»
За ужином я завёл разговор о предложении Петра сплавиться по тёплой речке.
— В доме столько дел, конь не валялся, — вяло отреагировала Зинуля, — вам бы только развлекаться.
— На обратном пути будем в Киеве и в Москве, пройдёмся по магазинам. Ты же не была в Киеве. Красивый город.
— Втроём?
— Нет, мы с тобой и Пётр с Ириной.
Лицо её начало меняться, глаза сузились. — Тебе о семье надо думать, а не с чужими любовницами кататься.
— Я не знаю, какие у них отношения.
— Зато я знаю, — она перешла на крик, — он что, на кухне под столом спал? Люди всё видят. Сперва с вотянкой крутил, теперь еврейку присмотрел. Своих не хватает?
— Что ты несёшь? С какой вотянкой?
— С Нинкой, библиотекаршей.
Я бросил вилку на стол. Слух резанула фамильярность, вспыхнула обида за симпатичных мне людей, я вспылил: — Это тебя твой папа, вертухай, научил так на людей смотреть? Зинке до этой Нинки, как мне до Аполлона. Чудная женщина, в неё весь институт был влюблён.
— Вот-вот, и ты ходил облизывался.
Я встал. — Спасибо за ужин. Накормила.
— Иди, иди к своему другу. Наберись опыта.
Я ещё решал хлопнуть дверью или высказать всё, что я о ней думаю, когда отворилась дверь и вышла Катя с мишкой в руке и книжкой под мышкой, подошла ко мне, протянула руку и сказала: — Пойдём, папа.
— Куда? — спросил я.
— К нашему другу. Я буду спать на диване, а вы на полу.
Я мельком взглянул на Зинулю, увидел испуганное лицо и всё же добавил:
— Пётр уходил спать к Чумаковым, хотя тебе в это трудно поверить. — Взял протянутую руку. Мы вышли и тихонько закрыли за собой дверь.
Катю усадили смотреть телевизор. Пётр возился на кухне. Я вышел на балкон, уставился в темноту поверх домов и вспомнил, что однажды уже видел испуганное Зинулино лицо. Память воскресила единственную встречу с её родителями. Отгуляв на свадьбе, они, видимо, сочли свой родительский долг исполненным и больше не подавали о себе вестей. Зинуля, похоже, тоже не рвалась в отчий дом и не тосковала по родительской ласке, если она вообще знала, что это такое. Не удивительно, что она постоянно одёргивала Катю: «Хватит лизаться!»
Сваты оказались крупными, громоздкими людьми. У меня даже мелькнула мысль, не приёмная ли дочь Зинуля, но потом я уловил сходство. Тесть, какой-то чин в системе Пермских лагерей, был занят едой и водочкой, которую тёща усердно подливала ему. Из её напутствия я запомнил последнюю фразу: «Любовь любовью, а спуска не давай!» — говоря, она выразительно поглаживала супруга по голове. Тесть молча пил и краснел, а когда лицо его налилось кровью, заговорил, сопровождая сказанное ударами кулака по столу. Мама моя смотрела на них, внимательно слушала, потом встала и вышла. Я нашёл её и Надежду Георгиевну у окна, подошёл и услышал:
— Переживаешь? Себя винишь?
Мама ответила в сердцах: — Бог с ними. Посмотри на Зиночку — ангелочек белый.
Надежда Георгиевна вздохнула. — Все невесты ангелы…
— Знаю. Это не про нас, — и она сделала отстраняющий жест рукой.
— Чур меню! — рассмеялась Надежда Георгиевна и обняла маму.
Я не стал смущать их своим присутствием, повернулся и увидел испуганное Зинулино лицо. Перед отъездом тёща доверительно сообщила мне: «С твоей женой так — сколько вбил, столько въехал». Она и вбивала, пока могла. А я не хочу. Постепенно наша размолвка стала видеться в ином свете: она оберегала свой хрупкий домик, боялась соблазна и ветра перемен, защищалась и срывалась на привычный с детства лексикон. Говорят: любит, жалеет и жалеет, значит, любит. У меня одно не вытекало из другого. Сейчас я только жалел.
Читать дальше