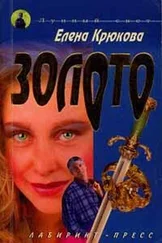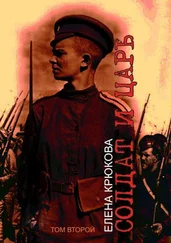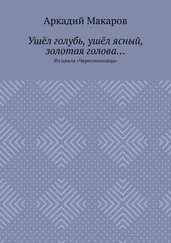Этим всем пахнет она.
— Ну? Поел? Молодец! Сонатина за тобой. Нельзя приходить с невыученным уроком. Лучше займемся неправильными глаголами.
Он лезет в папку за немецкой тетрадкой. Руки, похожие на лилии, придвигают к нему по чистой камчатной скатерти чернильный прибор. Он берет ручку в дрожащую, нелепую, еще гудящую недавней музыкой руку, обмакивает в лиловые, как вино, чернила кошачий коготь пера и выводит в тетради число. 12 июля 1943 года.
— Неймен, — мягко летит над его головой голос, и тетрадь подергивается перламутровым туманом. — Три основных формы, пожалуйста!
— Неймен, нам, геноммен, — хрипло перечисляет он немецкие глаголы. Он чувствует себя советским офицером, допрашивающим солдата вермахта, «языка». Тихо булькает и бормочет радио, далеко отсюда, в ее спальне, на краю земли. «Советские войска… под городом Курском… операция…»
Операция, думает он рассеянно, а мама вчера делала в госпитале операцию тяжелораненому. Сказала, сделала резекцию желудка и удалила часть кишечника. А как же он теперь есть будет, спросил он мать? «Научится», — пожала мать плечами.
— Штербен!
— Штерб… штирб?.. гештирб… гешторбен…
— Штербен, штирб, гешторбен, верно. Повтори.
Он повторяет. Он пишет в тетрадке, высуня на сторону язык. С пера капают чернила, в тетради расплывается клякса, он слизывает ее, а она ахает, бежит в кухню и несет ему оттуда полную чашку абрикосового компота! Откуда в Костроме абрикосы? Из какого пайка? С какого юга? Он жадно пьет, хлюп-хлюп, сладкий как мед компот, облизывается, как медведь, и говорит, вместо спасибо, что хочет еще на рояле поиграть. И она смеется. И он снова сидит за роялем, как в автомашине, и ноги на педалях. И нежные руки поправляют на клавишах его руки, и он еле дышит, когда она делает это. И его глаза косятся на черно-синие, отливающие изумрудом, с нитями драгоценной седины, гладкие густые волосы, аккуратно убранные под сеточку, усеянную жемчугами; на ярко-синие, как небо над Волгой в июльский день, широко и весело распахнутые глаза, на золотой крестик в вырезе ситцевого пестрого, простого платья. И она, о ужас! — внезапно гладит его по щеке. Музыка смазывается чернильной кляксой. Музыка расплывается страшной, гигантской кляксой по чисто-белой скатерти, злорадной каракатицей. Уроненные на клавиши руки медленно, как два ежа в нору, ползут, сползают на колени. На мокрые, потные, горячие колени. И внутри все мокро и потно. Все жарко и душно. Все поет, пляшет и сходит с ума. И кричит. И плачет. И умирает.
Урок окончен. Он старательно, очень медленно, еще медленнее, еще, одевается в прихожей. Его бархатный беретик висит на оленьих рогах. Или это лосиные? Он садится на корточки и ужасно медленно завязывает шнурки на башмачках. А стройная красивая ножка в фильдеперсовом чулочке, высунувшись из-под пестрого, как лужайка, платья, придвигает носком домашнего туфля поближе к нему скамеечку: садись, так же удобней! Он глядит на ее изящные туфли, на шоколадные каблучки, на кожаные бантики. Он садится, и мимо. Стыдно и гадко падает задом на пол. Она протягивает ему руку, и он хватает эту руку, будто тонет, будто умер уже, а рука поднимает его: ты воскрес. Она не смеется над его смешным паденьем, и он благодарен ей за это. Он рад. Он счастлив. Еще один урок прошел.
— До свиданья, Лодик, — говорит звучный голос, будто рояль поет. Он произносит его дурацкое имя немного с немецким акцентом, смягчая «л» перед «о»: «Ледик». — Выучи все хорошо.
— До свиданья, Екатерина Петровна, — говорит он и сам не слышит, что говорит. Губы шевелятся, а голоса не слышно.
Домой он бежит по лужам, размахивая папкой с нотами, как красным флагом, поднимая грязные брызги до облаков, до вороньего лета и грая. Матери нет дома. Мать придет только поздно вечером, а то и ночью. Он будет спать, а мать будет плакать и стирать его испятнанную курточку, штанишки и берет.
По-настоящему его звали Володя, но мама его звала Лодик, и ему не очень нравилось это имя; Лодик, сладкое такое, липкое, или будто по речке лодка плывет. Шла война, и они с мамой жили в этом мрачном старинном городе на берегу Волги; город звался Кострома, вот это было красивое названье, — костер, огонь. Из Москвы всех отправляли в эвакуацию; мама проводила отчима на фронт, собрала вещи в большой черный картонный чемодан с железной застежкой и железной ручкой, схватила Лодика за руку, нахлобучила ему на голову берет, наспех перекрестилась, не успела даже заплакать, и они поехали на Ярославский вокзал и взяли билеты до Костромы. Кострома была родным городом мамы, а еще бабушки, а еще всех дедов и бабок; у них была такая смешная, запрещенная в Стране Советов фамилия — Боголюбские. А у отчима была фамилия Климентович, он был поляк, родом из Пинска, он усыновил Лодика, а в школе все думали, что Лодик — еврей.
Читать дальше