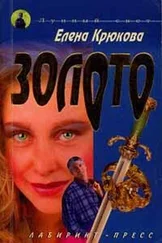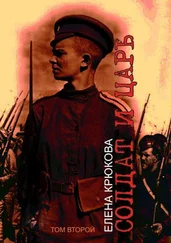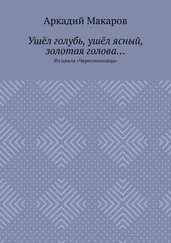У него было семь детей от разных женщин, кроме детей от Фаи; он их не воспитывал, видел редко, но очень гордился семенем и отцовством своим.
К старику потянулись люди с его книжками — чтобы он поставил автограф, — он сидел в краснобархатном кресле, как царь, а девушка, с малиновыми от стыда и радости щеками, стояла рядом, как оруженосец, в почетном карауле. Он небрежно подписал все книжки и обернулся к ней. Острые зрачки разрезали яблоко ее лица пополам. «Ну что, идем?» — жестко, коротко и железно спросил старик, и девушка животом почуяла, как смертельно он хочет ее.
Они вышли из дома Цветаевой вместе, и старик держал девушку под руку. Иногда его железные пальцы сжимали ее локоть, и она тихо вскрикивала. Тогда он разжимал пальцы и тихо говорил: прости.
Он обнял ее на морозе, в вихрении метели, когда они отошли от дома, где встретились, и от назойливой толпы друзей и поклонников. Обнял крепко, и она поняла: трудно будет вырваться из стального кольца этих жилистых, старых и сильных рук. Он ее целовал сухими и жесткими губами, его жадный рот делал больно ее нежно-лепестковому рту и языку, а голова ее работала ясно и холодно, соображала цинично и жестоко: он знаменитость, он москвич, он великий поэт, он втрескался в меня, я разведу его со всеми женами и детьми, я женю его на себе, я сделаю карьеру, он вхож во все журналы и издательства, он будет без ума от меня и везде меня протолкнет!
Весь расчет будущей жизни сумасшедше пронесся у нее в закинутой голове, и баранья курчавая шапочка с ее затылка плавно соскользнула в снег, и ветер покатил ее по наледи и выкатил, пока они исступленно целовались, мимо мигающего светофора, на проезжую часть. Накатил огненным зверем автобус, проехал колесом по шапочке, расплющил ее. Метель швыряла колючий крупитчатый снег мелким жемчугом в ее русые тонкие волосенки, а старик шарил по юному личику ошлепками поживших, утомленных губ, собирал снег летящих поцелуев, вглатывал последнее, живое чудо.
«У тебя хорошие стихи», — выдохнул он, задыхаясь. Девушка довольно хохотнула про себя: ха-ха, вот так-то! — а снаружи изумленно потащила брови вверх, на лоб: «Правда?! Я рада!» Старик крепко, больно взял ее за руку и повел за собой. И она пошла за ним и за его рукой в столичной фантастической ночи, полной снежных вихрей и цветных огней, как покорная овца, и радостный смех распирал ее изнутри.
Старик долго ехал с ней сначала на метро, потом на автобусе, потом они еще прилично шли пешком. Громадные массивы новых домов немного испугали девушку. Ей казалось — каменные башни навалятся на нее, раздавят. Она закрыла глаза и вспомнила безмолвную тундру, плоскую, золотую, драгоценно-ковровую, будто парчовую, по весне. Поэт поднялся с ней в лифте на последний под крышей этаж. Пока ехал в лифте, все целовал ее, крепко и безумно. Позвонил в дверь, и ему открыли.
Те, кто открыли им, не спрашивали ничего. Девушка потеряла себя в огромной квартире, — так мышка теряется в царском дворце. Куда-то провели их. В комнате стоял необъятный диван. И чужие тапочки у дивана. Девушка все поняла, застежки отлетали из-под ее пальцев, а пальцы мелко дрожали. Старик разделся как в армии, мгновенно. Она ахнула: лицо у него было старое, а все тело жилистое, твердое, пластинчатое, смуглое, поджарое, — молодое. Его плавки топырились горбом. Она легла, он упал на нее, она раздвинула ноги, потом, боясь, снова сдвинула: разве можно так сразу? Старик содрал с себя плавки, разорвал их крючьями пальцев. Девушка, упреждая наслажденье, застонала прежде, чем он с размаху, будто весь в одночасье превратился в один летящий в смертную цель, разящий нож, всадил себя в нее.
Девушка сама не ожидала, что старый поэт окажется таким волшебным любовником. Лежа в чужих постелях, они иногда говорили друг с другом о своих жизнях, что мотались у них, у каждого, за спиной. «У тебя есть жена?» — «Есть. И дети есть». — «Сколько?» — «Сколько ни есть, все мои». Он улыбался, закуривал сигарету, затягивался и кашлял. Она осторожно вынимала горящую сигарету у него изо рта. «Это хорошо. А как же жена?» — «Никак. Она же не знает о нас». — «А если узнает?» — «Не торопи время. А у тебя муж есть?» — «Есть». — «И дети есть?» — «Дочка. Маленькая еще». — «Да, там, на Севере…» Он снова тянулся за сигаретой, дымил и уже не кашлял, и девушка ежилась под теплым одеялом от небесного, потустороннего холода. «На Севере, да… Люблю я Север. Поездил я там. В свое время. Если б ты знала, сколько там белых черепов лежит! Сколько белых костей… Ты любишь мужа?» Теперь она вытаскивала сигарету из пачки, неумело курила, и дым серебристо вился вокруг ее растрепанных сенных волосенок. «Раньше любила. Теперь нет». — «Кто он?» Она слышала лязг железной ревности в голосе старика. «Работает на лесопилке». — «И плотничает? Строит?» — «Да. Сам нам дом за городом построил». — «Я тоже плотник. Я этими руками много домов в деревнях срубил. В свое время. И часовню даже срубил. На твоем Севере. На Белом море. Кемь знаешь?» Она наклоняла голову. Искуренная сигарета жгла ей детские пальцы.
Читать дальше