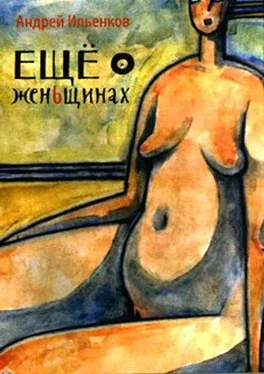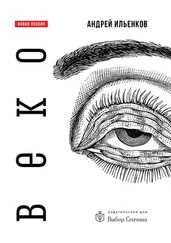Вокруг не было ни жилых подъездов, ни древних руин, ни даже варежек у неё, было лишь минус двадцать восемь. И Петров её пожалел вот так.
— Вот, Парамон, ты уже хуже гинеколога, — с удовлетворением в голосе сказал Петрову его пошлый и опасный друг Сидоров.
— Я лучше! — вырвалось у Петрова.
— Чем лучше?
— Чем гинекологи! Они профи, за деньги работают, и им никого не жалко.
— Зато гинекологи лечат.
Вот тут-то и началось. Обиделся Петров страшно и заявил, что одним глаженьем по голове может вылечить добрую половину женских и социальных болезней.
— Только ты молчи! — испугался Петров и показал Сидорову кулак.
Сидоров пообещал молчать, но поинтересовался, как именно это делается в смысле конкретно. «Конкретно»! Жалкий Сидоров! Здесь страшное, здесь о вечности, а он — конкретно! Да разве в доме всепроникающей жалости к человечеству, пространству и времени говорят о технике! Её нет, потому что не может быть никогда, покуда мир держится на приношении Нашей Прелести, если захочет прийти. И цыплёночку.
Сидоров молча поцеловал его в лоб и сказал:
— Ну ты, блин, извращенец.
— Я натурал! — воскликнул Парамон.
Нет, объяснил ему пошлый Сидоров, ты извращенец, потому что ты не любишь женщин, а жалеешь их. И если ты вступаешь с ними в связь, это ничего не доказывает, и перечислил много гадких терминов, обозначающих разных дебилов, извращенцев, козлов и уродов, все из которых тоже вступают в связь с женщинами. С мёртвыми, безногими, прикованными к скале, измазанными собственным дерьмом, малолетними, престарелыми, кровнородственными. С теми, кто дерётся хлыстиком или наступает этим субъектам на лицо. Вступают только сзади или наоборот, или в отверстие между сомкнутых ступней, или в мокрой одежде, белой, латексе и резине на высоких каблуках, измазанных сливочным кремом, с клизмой, в автомобиле, на люстре, перерезая горло. Это всё извращенцы, бедный Парамоша.
И Петров захворал. Все думали, что СПИДом, а оказалось, что сошёл с ума, и уже очень давно. Признали у него манию величия, и все дела. Потому что слова Шиллера «миллионы, обнимитесь» он понял слишком буквально и, очевидно, отвёл себе роль организатора этого единения миллионов. Его полгода откачивали инсулином и электрошоком — еле откачали, аж все зубы выбили. Вышел Петров из дурдома хмурый-прехмурый. Встал посередь дороги, плюнул себе на лыжи и сказал сам себе: хватит! Буду бабки заколачивать. Защитил докторскую, заколотил сколько нужно, вставил медные джинсовые зубы и женился. Жене он никогда не изменял. Один раз она ему, с каким-то блаженным. Петров ей врезал раза пепельницей промеж глаз — ничего. Потом помирились.
Вот на этой прозаической, но жизнеутверждающей ноте и хотелось бы нам завершить рассказ про Петрова. И знаете что?! Мы так и сделаем. Потому что эпизод обрёл пускай сказочную, но завершённость, и это лучший момент, чтобы заткнуться и не задаваться лишними вопросами. Типа а всё ли в жизни заканчивается свадьбой героя, тем более что ведь и так уже не свадьбой, уже, глядите-ка, затронута тема не всегда лёгкости семейной жизни, так вот, лучше заткнуться. А то это будет опять незнание чувства меры, ведь обещалось только описание пепельницы, а оно произошло.
Читатель-то вправе задаться лишним вопросом — а как сложится дальнейшая судьба этой семьи? Ведь неужели мадам Петрова, коль скоро она уже стала на кривую дорожку адюльтера, столь малодушна, что откажется от этого из-за одного удара меж глаз? Кто знает, может быть, и откажется, хотя бы на первое время. Петров мог пожалеть о своём поступке (см. выше — «помирились»), мог пожалеть женщину, и неизвестно, как долог был у него после процедур период стойкого воздержания от жалости, — а ведь долог, иначе когда бы Парамон успел и защититься, и разбогатеть, и даже прискучить супруге. А ведь воздержание опасная вещь, и тут позволительно предсказать, что в диалоге и ремарках сцена ссоры была безобразна, но прекрасно бурно получилось примирение, с весенним ливнем, и Петров развязал.
Но если это точно так, то он снова и снова будет нуждаться в приливах жалости. А ведь мадам Петрова, судя по вышесказанному, особа молодая, привлекательная, не нищая, и особенно сильно жалеть её как будто не за что. Так нельзя ли создать условия, при которых она станет достойна жалости?
А вот на это господин дракон велел сказать: «Я знаю только то, что ничего не знаю. И знать не хочу». На этот вопрос способен ответить только персонаж. Что, Петров, вот тут читатели интересуются: мог бы ты прищёлкнуть её к батарее и отделать дедушкиным ремнём, симулируя припадок садизма, а затем, влагая пальцы в расцветающие полосы и звёзды, облиться слезами над вымыслом? Говорит — не мог бы. Но если так и крокодиловы слёзы не настоящие, а хочется настоящих, — где и каких по-настоящему жалких женщин взыскался бы ты, легко оставив семью и кафедру? В какие бы низины ты спустился, взошёл на какие горы, какие бы пересмотрел страхи и ужасы России, не даёт ответа, потому что рассказ давным-давно кончился. А также есть мнение, что никакой Петров не извращенец и тем более не мессия, а обыкновенная блядь, но, кажется, не совсем справедливое.
Читать дальше