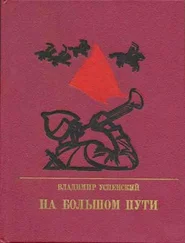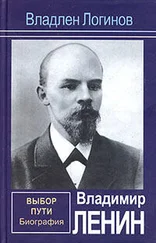— Не беспокойтесь, товарищ Перельман, партия знает, что делает. Вы только помните, что вы на посту, и не теряйте бдительности. Кстати, а ведь ваш дядя тоже, говорят, на польской стороне…
Бабушка несколько раз встречалась с Менделем на мосту. Он тогда ходил в еврейскую гимназию в близлежащем городке воеводства, и там не только изучал древнееврейский, но и постигал премудрости Торы, а она пошла в белорусскую среднюю школу и сразу запрезирала свой родной идиш.
И что от всего этого в памяти осталось? Немного, так, клочки, обрывки: вот они переговариваются у шлагбаума, вот быстренько, пока не разогнали, передают приветы, вот обмениваются вестями, понимая, что советский и польский берег расходятся все дальше. Еще до того, как бабушка переехала в Ленинград, семейство Менделя перебралось в Варшаву.
После войны, рассказывает бабушка, она побывала в своем родном белорусском штетле, который и штетлем-то уже назвать было нельзя, потому что большинство евреев уничтожили нацисты во время оккупации. Ни бабушкиных родителей, ни дяди с отцовской стороны, ни двоюродной бабушки с материнской, ни многих других в живых уже не было; не было в живых даже Перельмана с Бергманом, их еще в тридцать седьмом ликвидировали как врагов народа. Граница на триста километров отодвинулась на запад. Вот только старый деревянный мостик стоял по-прежнему, и реку теперь можно было свободно переходить в обоих направлениях. Правда, городок опустел, и некому было особо радоваться такому трогательному обстоятельству. Дом Менделя совсем развалился, двери сняли с петель, мебель растащили, крыша обрушилась. Мендель к тому времени уже давно находился в Вене, куда он попал, пережив гетто, Освенцим и послевоенные погромы в Польше, и собирался в Палестину, но увидеть Палестину ему было не суждено…
Мама возвращается поздно вечером. Устало опускается на диван рядом с бабушкой.
— Рита часа три меня своими сомнениями и страхами терзала, — сообщает мама, — то впадала в отчаяние, то твердила о покорности судьбе, то ее охватывала какая-то нездоровая жажда деятельности: она все порывалась ехать в Центральную больницу. А она ведь только утром у отца побывала — он там лежит в реанимации, в тяжелом состоянии.
— Да что с ним такое? — в который раз спрашивает бабушка. — Несчастный случай?
— Понятия не имею, — говорит мама, пожав плечами. — Вы же Риту и без меня знаете. Она все так усложняет, что сама потом начинает верить, будто на ее долю выпадают сплошные страдания. Рита наотрез отказалась говорить, что с ним случилось. Мол, в интересах отца она предпочла бы об этом не распространяться.
— Странно как-то, — удивляется бабушка. — Нет, тут что-то не так.
— Неужели он пытался покончить с собой? — предполагает отец и смотрит на бабушку, точно она — эксперт и сейчас представит заключение о психическом состоянии Менделя.
Но бабушка только отмахивается. Какое там, Мендель же глубоко верующий, а религиозный человек на самоубийство никогда не решится. Неважно, пусть ему даже и плохо, пусть его мучают воспоминания о гетто и концлагере, пусть ему не дают покоя страхи, мания преследования — он никогда не покончит с собой. Нет, тут даже и сомневаться нечего, она руку готова дать на отсечение.
— А если его неонацисты избили? — выдвигаю предположение я.
То, что его избили неонацисты, представляется мне наиболее правдоподобным, ведь Ритин отец всегда ходит в кипе или в шляпе, до сих пор говорит с акцентом — то ли с польским, то ли с польско-еврейским. А когда мне звонит — раз в году, поздравить с днем рождения, — неизменно здоровается со мной: «Шалом, рав!» — и меня это каждый раз страшно веселит. Я ему отвечаю, разумеется, невпопад:
— Бог в помощь, и вам того же, самый сердечный шалом! — чтобы тут же спохватиться и добавить:
— Ах, что это я, нельзя же имя Господа вслух произносить!
— Надо бы тебе лучше религию отцов изучить, молодой человек, — упрекает меня Мендель и журит на смеси идиша и немецкого: — Ну посмотри на себя, ну какой из тебя еврей, если ты здороваешься как функционер АНП? [53] АНП (Австрийская Народная партия) — одна из крупных политических партий, имеющая консервативную, христианско-социальную программу.
Может, тебя ивриту поучить? Давай, я с тебя и денег не возьму! Иврит — древнейший в мире язык, ему уже три тысячи лет!
Этим предложением я так и не воспользовался.
Я представляю себе, как этот чудак попадает прямехонько в руки банде неонацистов, как они выкрикивают ему угрозы, осыпают его оскорблениями, как он на своей смеси идиша и немецкого что-то отвечает им с «обезоруживающей наивностью», чем окончательно выводит их из себя. Чем больше он нервничает, тем чаще переходит на свой родной идиш, хотя немецким владеет в совершенстве. А иногда и сознательно говорит на этой смеси языков.
Читать дальше