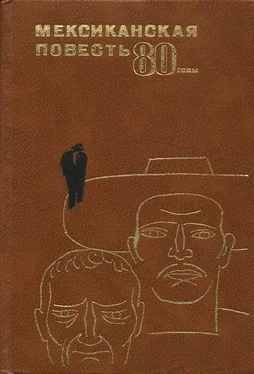— Очень милая девушка Билли! — от души откликнулся Джанни.
— Милая? Билли? — взвился он.
При отъезде из Мексики они решили большую часть каникул провести на Сицилии. Но вдруг увидели, что лето вот-вот кончится, а они так и не уехали из города; ведь «Рим знает немало уловок и приманок для простаков», как сказала бы Билли, несносная Билли Апуорд, в таких случаях напускавшая на себя вид вещей птицы, большущей птицы с длинной шеей и пронзительным взглядом, готовой то и дело мрачно каркать и клевать всех направо и налево. Лукавый Рим, скрытый под своим одеянием — и пышным, и провинциальным, — в конце концов соблазнил их. И они очень охотно поддались его чарам.
В первые дни Леонора без конца твердила, что не узнает его, он стал другим, теперь он более юный, более отважный, прекрасный авантюрист или ученик Марсилио Падуанского, только недавно листавший грязными пальцами страницы текста, возможно принадлежавшего Платону и найденного в библиотеке безвестного монастыря, или пылкий кондотьер на службе у какого-нибудь свирепого и утонченного принца, сын солнца, язычник.
И в самом деле, вторая встреча с городом опять облегчила ему отношение к жизни. Снова глотнуть темного молока старой волчицы, вдохнуть ее влекущий запах, насладиться созерцанием гордых пальм, которые, выделяясь на стенах церкви Тринита-деи-Монти, на фоне фасадов цвета сепии, алого или блекло-винного, бросали в бесстрастное небо, среди вдруг отступившего пейзажа, мавританский клич, исполненный дерзости и счастья, с полным самозабвением, навеянным другими краями. «Ибо Рим — столица Африки, — сказал как-то Рауль, — а Венеция — столица Востока!» С радостью затеряться в лабиринте улиц и переулков, неожиданно выходивших то на царственную площадь, то к какой-нибудь незаметной часовне, куда забредают лишь бездомные коты или праздная кривоглазая усатая старуха вся из костей и нервов, скелет в черных лохмотьях; несколько раз в день проходит она туда и обратно, чтобы открыть или закрыть темный склеп, переставить цветы, зажечь или погасить свечи, вымести сухие листья и горсть пыли!.. Иной раз густая сеть улочек, посулив рай впереди, могла просто раствориться в безликом проспекте, напоминающем о том, что их время — как и все времена — одержимо стремлением уравнять все: Рим, Ла-Пас, Лондон, Даллас, Бат, Монтеррей, Самарканд, Венецию.
Какой позор эти волны болтовни, которые поднимает и пропускает через себя такой город, как Рим, неотвержимо и безнаказанно заливая ею душу человека! — повторял он тысячи раз этим летом. Невозможно молча постоять в Сикстинской капелле, перед Капитолием, портретом Иннокентия X или Паолиной. Даже если путешествуешь один и можешь позволить себе роскошь молчания, и то общие места будут преследовать тебя неотвязно, туманить и отуплять сознание, душить каждый росток мысли, принижать и мельчить любое неповерхностное суждение, с унынием признавал даже сам Беренсон, [99] Беренсон, Бернард (1865–1959) — английский историк искусства.
едва ступал на землю Италии. А если, как в его случае, вас сопровождает супруга, впервые попавшая в Европу, поток готовых фраз, дешевых ассоциаций льется подобно полноводной реке, затопляя все: Пьяцца-дель-Пополо и фрески Караваджо, Форнарину и Рафаэля, живописные сады холма Пинчо и роковую прогулку, погубившую честь Дэзи Миллер; к этому еще добавляются социологические рассуждения, обрывки исторических познаний, пресса, кино.
Когда Леонора среди развалин пыталась вспомнить страницы учебника истории искусств, жадно проглоченного перед путешествием, роившиеся вокруг нее образы выплывали из времен детского чтения «Quo vadis», [100] «Камо грядеши» — роман польского писателя Генриха Сенкевича (1846–1916).
запечатлевшего свирепых львов, толпу христиан и Нерона, конечно в исполнении Чарльза Лоутона, а в закоулках памяти с величавой томностью возрождалась Клеопатра — Клодетт Кольбер, разумеется ничего общего не имевшая с царицей, которая усеяла Рим обелисками и котами; тогда он сыпал про себя такими словечками, что, услышь бедняжка их записанными на пленку, она бы тут же умерла от стыда. Но порой, когда Леонора брала его под руку и шептала почти на ухо, что есть в архитектуре эпохи Диоклетиана элементы потрясающие (он не разобрал, сказала она «Диоклетиан» или «Диалектиан», а лишь увидел, как она обвела широким неопределенным жестом часть пейзажа, где были сосны, уцелевшая арка, полуразрушенные колонны и колокольня, выглядывающая из густых зарослей лавра), она так радовалась, говорила так горячо, что он невольно заражался и чуть ли не испытывал головокружение. О, где ты чистое простое счастье созерцать эти сосны, эту арку, колонны, лавры, колокольню в одиночестве и твердить самому себе, не произнося ни слова, что готов любоваться всеми элементами, будь они диоклетианскими или диалектическими, какие только встретятся на пути!
Читать дальше