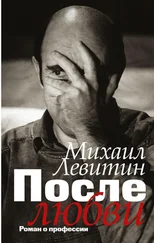— Шинкиле, — сказал я. — Это не мы с тобой, ты один разговариваешь.
— Ой, правда? Я так много говорю, что устаю от самого себя. Потому что я нервный, сначала я уговариваю себя, что никакой не нервный, просто веселый, потом люди говорят мне: «Ты очень нервный», тогда я расстраиваюсь и начинаю играть на флейте.
— Ты любишь играть на флейте?
— Обожаю! Это так же легко, как говорить.
— Да, да, стоит только нажать вот на те дырочки и дуть…
— Откуда вы знаете? Вы учились играть на флейте?
— Это Гамлет.
— Ой, я знаю Гамлета. Я мог бы проситься в театр, в оркестр, но я не люблю играть плохую музыку, а в театре она почти всегда плохая, ее сочиняют неудачники, а Моцарт не был неудачником, хотя его почему-то так все называют, сейчас я сыграю вам Моцарта.
И он играет. И все за столиками улыбаются, так потешно он таращит глаза, когда играет, и еще потому, что он действительно лучше всех в мире играет. А потом мы втроем идем по улице, держась за его велосипед.
— А теперь, друг мой, — говорю я, — вы сделаете мне одно одолжение, а уж я буду вам обязан все время, пока нахожусь в Париже,
— Я не делаю друзьям одолжений, — отвечает Шинкиле. — Вы только точно объясните.
Мы приходим на Пон-Мари, и я посылаю малыша наверх в квартиру, чтобы мои открыли окно. Окно открывают не сразу, наверное, она спросила — зачем? Но потом все-таки открывают, и на подоконник забираются дети, она же мелькнет только один раз — выговорить им, чтобы не разгуливались — свалятся, и я чувствую себя виноватым, что подвергаю их жизнь опасности. Она даже не взглянула на нас, а Шинкиле играет, все на мосту аплодируют, он хорошо играет, и остается надежда, что она все же слышит его в глубине квартиры. Детей же все время теребит, они отворачиваются, чтобы ей ответить, или зовут подойти — взглянуть, как смешно подпрыгивает Шинкиле во время игры, но слушать она им не дает, окно закрывается раньше, чем Шинкиле доиграет, и дослушиваю его я и те, кто на мосту.
Денег за этот концерт Шинкиле ни с кого не берет.
Мы стоим, смотрим на закрытое окно, на Сену, смотрим, как темнеет к вечеру золото Парижа, флейтист молчит, ему трудно, я знаю.
— Это их мама? — спрашивает он. — Очень красивая мама, она совсем не похожа на еврейку.
— Она не еврейка.
— И вы не боитесь, ой, какой вы смелый, мне ни за что, ни за что не разрешат жениться на не-еврейке, хотя мне нравятся еврейки, я все равно убегу, потому что ненавижу, когда мне запрещают, и женюсь на такой же красивой, как ваша. Это приятно — быть женатым на красивой?
Я промолчал.
— Что за глупости спрашиваю, не хотите — не говорите, я всегда сначала скажу, а потом жалею, что раньше не откусил себе язык, конечно, приятно, вы идете по городу, и вам все-все завидуют, а потом приходят домой и говорят домашним, что видели самую красивую пару на свете, те не верят, просят рассказать, а как тут можно рассказать?
Мы договариваемся о встрече, Шинкиле садится на велосипед и уезжает, продолжая беседовать с самим собой. Я же вздохну поглубже, наберу побольше воздуха и поднимусь наверх.
Это я позже узнал, что она сказала.
— Подозрительный тип, — сказала она.
Каждое утро я выбегал из дома, и теперь уже Сена, едва дождавшись меня, сама бежала вперед, раздвигая передо мной город.
Если солнечное пятно ляжет левее, что изменится? Что вообще меняется в душе от расположения солнечных пятен на брусчатке дебаркадера или бликов на воде? Надо довериться солнцу, оно приведет тебя куда нужно. А еще можно довериться сумеркам, а еще дождю и ветру, если вы в Париже, даже изморози, если у «Гранд-опера», и вы достаете из кулечка каштаны, обжигая ладони.
Да, Бог не фраер, Бог не фраер. Никогда бы она не поверила, что, готовясь к Парижу, я встретил там у нас дома в метро Квазимодо, он сидел с самого края задумавшись, и ближайшая соседка боялась случайно его коснуться, он сидел с края, возвышаясь над всеми, зная, что некрасив, но не догадываясь — насколько, в байковой рубашке, застегнутой под горло, король уродов Квазимодо, кулаки большие, волосатые водружены на колени как кружки, и все равно как-то особенно выделялся большой циферблат на запястье, наверное, эти часы что-то для него значили. В толстые ботинки ушли носки, приоткрыв полоску кожи, садясь, он слишком высоко вздернул брюки, огромная никому не нужная голова, мясистый нос, волосы, как всегда, на большой голове унылы и неопрятны, и, пока он шел к выходу, я думал, что в жизни есть все, что химеры воображения где-то воплощены. Заблудился он, что ли?
Читать дальше
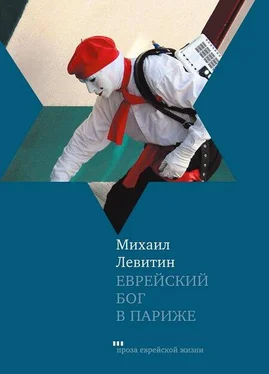






![Михаил Левитин - После любви. Роман о профессии [сборник]](/books/431108/mihail-levitin-posle-lyubvi-roman-o-professii-sbo-thumb.webp)