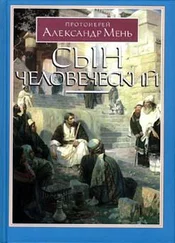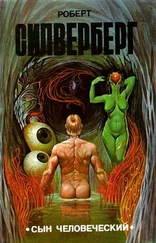Глаза у Хуаны Росы увлажнились. Она вытащила из-под фартука пачку сигарет и протянула Сальюи. Та взяла одну сигарету, прикурила над плитой и сделала несколько торопливых затяжек.
— Буду молить господа, чтобы ты встретилась с муженьком, Хуана Роса, — сказала Сальюи, выпуская дым из ноздрей.
Они распрощались, как сестры. Приставленный к кухне капрал и несколько солдат с шумом ввалились в помещение, таща походный котел. Капрал начал отпускать в адрес женщин сальные шуточки, но те и бровью не повели. Сальюи вышла, не сказав ни слова. По земляной насыпи шагал Кристобаль Хара.
6
— Кристобаль! — окликнула она его.
Он не ответил и, казалось, даже не замечал девушки. Только пошел быстрее. Сальюи тоже прибавила шагу. Наконец, запыхавшись, догнала.
— Мне надо с тобой поговорить.
— Некогда.
— Я знаю, что тебя посылают далеко…
Кристобаль, и без того недовольный и насупившийся, совсем помрачнел. Но Сальюи упорно продолжала:
— Тебе же все равно понадобятся санитары, а в госпитале их можно по пальцам перечесть. Я хочу поехать с вами.
— Не нужны мне никакие санитары, — смерив девушку взглядом, отрезал Кристобаль. — Не хватало только… бабы… — Он на секунду заколебался и не докончил фразы, проглотив готовое сорваться с языка ругательство, смысл которого, вероятно, превосходил то, что он намеревался сказать.
— Я поеду с тобой, Кристобаль.
— Зачем? Каждому надо знать свое место, — ответил он, не глядя на Сальюи.
— А если я попрошу взять меня?
— Нет. На что мне лишняя обуза?
Она точно одеревенела. В оцепенении смотрела, как он шел крупным пружинистым шагом. Подойдя к озеру, Кристобаль вдруг пустился бежать. И весь лагерь разом пришел в движение. Поначалу Сальюи даже не поняла, то произошло. Хара был уже далеко, расстояние между ними все увеличивалось, словно презрение Кристобаля отшвырнуло девушку на много лет назад, в глубь того времени, когда она была унижена и посрамлена. Земля уходила из-под ног Сальюи. Вдруг лицо ее преобразилось. Едва заметная улыбка чуть растянула губы. Даже в обычно тусклых глазах появился блеск. Они широко раскрылись и пристально смотрели вдаль, не замечая, как три стремительные кометы со свистом вспороли небо над тыловой базой.
И в это мгновение, словно прозрев по вышней воле, Сальюи навсегда отреклась от себя.
О ней здесь никто ничего толком не знал, как, впрочем, и она сама, начисто вычеркнув из памяти ту женщину, какой она была раньше. Стерлось даже ее прежнее имя — Мария Энкарнасьон. Про нее болтали разные небылицы, но все они питались местными пересудами и кривотолками. Некоторые пытались связать ее появление в армии с первой мобилизацией тысяча девятьсот двадцать восьмого года, когда женщины сотнями уходили вслед за мужьями. Но в ту лору она, очевидно, была еще зеленой девчонкой, у которой едва намечались груди. По другим слухам, какая-то офицерская жена привезла ее нянчить детей, а потом ей отказала, потому что… Словом, сплетни мешались и путались, но слава авантюристки за ней упрочилась, и все потому, что она, словно ветошь, была выброшена за борт лагеря, а красота и детское простодушие, столь неуместные в здешних краях, выделяли ее на фоне гарнизонных будней.
Когда ее спрашивали, как она здесь очутилась, девушка обычно отвечала так:
— Приехала посмотреть на карнавал, да вот и осталась.
Война изменила ее: когда набрякшая от крови луна молодой хищницей всплыла на горизонте Чако, Мария сбросила прежнюю личину, как змея сбрасывает летом кожу.
Незадолго до войны, во время строительства у озера так называемого «нижнего поселка», ей удалось выпросить себе хижину из пальмы и необожженного кирпича. На другом берегу озера, на холме, стояли каменные дома, в них жили офицеры со своими семьями. Вечерами их жены и родственницы прогуливались по площади вокруг мачты, на которой трепыхался флаг. Из своей хибары Мария разглядывала добропорядочных расфранченных бабенок и подолгу смотрела на девиц, кружившихся в танце под духовой оркестр; их силуэты вырисовывались на фоне лиловато-песочного неба. Она, наверное, завидовала их кричащим, обтягивающим гибкие талии платьям, туфлям на высоком каблуке и даже вздувшимся животам беременных сеньор, которые они носили напоказ— «пупом вперед». Лунными ночами она вглядывалась в ярко освещенные окна, откуда летела музыка и веселый гам семейной вечеринки. У девушки же не было ничего, кроме худой славы, которая все росла, обволакивая ее хибару на берегу озера. Прохладный ветер из пустыни рвал циновку, заменявшую дверь, и тихонько шуршал, словно царапался иссохшими пальцами. Прямо перед циновкой сидели на корточках мужчины и дожидались очереди; когда светила луна, они прятались от патруля в бурьяне. Но патрульный тоже наведывался в хижину: спешивался и ждал вместе с другими, пока не наступит его черед, или, пользуясь своей властью, лез напролом и прилипал, как пластырь, к тростниковой циновке, прислушиваясь к глухой возне, мужскому страстному шепоту, женским насмешливым словам, а порой и ленивым пощечинам, которыми Сальюи награждала посетителя, чтобы ускорить наступление томительной тишины. Временами она выскакивала на порог проветриться. Волосы были в беспорядке, грудь и живот, рельефно очерченные лунным светом, выпирали из-под дырявой, пропитанной потом комбинации. В такие моменты эта маленькая женщина обладала безграничной властью над распалившимися мужчинами. Кто-нибудь угощал ее сигаретой, другие совали в руки заранее принесенные подарки, украденные для нее со склада: галеты, мате, муку, банки с мясной тушенкой, а порой и бутылочку пива.
Читать дальше