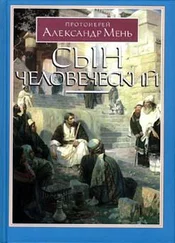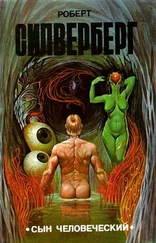С появлением железной дороги деревня начала пробуждаться. Земля на перроне словно еще дышала под уминавшими ее босыми ногами. Раз в неделю сюда сбегались к приходу поезда торговки лепешками и алохой [7] Алоха — напиток, приготовляемый из воды, меда и пряностей.
. Медные скулы, рваная одежда — все было покрыто красной въедливой пылью.
Теперь поезда ходят чаще. Каменный перрон новой станции успел приобрести цвет своего немощеного предшественника. Ветка ведет к сахарному заводу, который высится над рекой, неподалеку от деревни. Против станции — винные склады. Турецкие лавчонки режут глаз своими ослепительно-белыми стенами, словно их не просто выбелили известью, а выкупали в ней. Новая церковь прикрыла собой скелет старой. Черные свечи кокосовых пальм срублены под корень. Колокольня тоже снесена. На ее месте поставлены скамейки и помост для религиозных празднеств в день святой Клары.
Теперь здесь шум, оживление. Прежде ничего такого не было.
Прежде по дороге на Борху и Вильярику стояли лишь редкие ранчо да одинокая повозка, бывало, тянула за собой по равнине ленту пыли.
Но кое-что все-таки осталось от прежних времен.
Примерно в пол-лиги от деревни высится холм Итапе. У его подножья проходит дорога. Ее пересекает небольшая речка, которая берет начало из бьющего на холме родника. В те часы, когда холм ярко освещен солнечными лучами, на его вершине удается разглядеть большое распятие, четко вырисовывающееся на фоне раскаленного добела неба.
Туда все ходили праздновать страстную пятницу.
Благодаря событиям, успевшим стать преданием, хотя они разыгрались относительно недавно, жители Итапе справляли этот праздник на свой, особый лад.
На вершине холма, прибитый гвоздями к черному кресту, неизменно был виден Христос. Навес из болотницы, похожий на индейскую хижину, укрывал его от непогоды. Поскольку и крест и Христос находились там постоянно, необходимость изображать сцены распятия, естественно, отпадала, и обряд начинался прямо с «семи слов», за которыми следовало снятие со креста. Дрожащие, скрюченные пальцы тянулись к распятому искупителю и чуть ли не срывали его с креста в каком-то злобном нетерпении. Со статуей на плечах толпа спускалась с холма, надсадно вознося к небу песнопения и молитвы. Так она двигалась по дороге, доходила до церкви, но у паперти останавливалась. Внутрь церкви Христа никогда не вносили. Толпа стояла у паперти, а песнопения становились все громче, превращаясь в угрожающие воинственные крики. Потом статую поворачивали над толпой, и мертвенно-белый Христос в свете чадных факелов и сальных свечей, покачиваясь на людских плечах, возвращался к себе на холм.
Этот грубый, примитивный обряд питался духом противоборства, духом коллективного бунта. Казалось, человеческое естество не желает мириться с запахом жертвенной крови, и к девятому часу страстей Христовых душу раздирали крики то ли отчаяния и обиды, то ли надежды.
За этот обряд мы, жители Итапе, прослыли фанатиками и еретиками.
Но в те времена народ продолжал из года в год ходить к холму, снимать искупителя с креста и носить его по деревне как жертву, требующую отмщения, а не как бога, пожелавшего умереть за людей.
Возможно, простодушные жители Итапе не могли постичь смысла этого таинства. Либо Христос — бог, тогда он не мог умереть. Либо он — человек, тогда его кровь пролилась на их головы напрасно, не насупив ни единого греха, так как если жизнь и переменилась, то только к худшему. Возможно, просто сама история появления статуи на холме пробудила в их душах такую странную веру в этого искупителя-парию, которого, так же, как их, постоянно унижали, травили и убивали от самого сотворения мира. Поистине странная вера! Вера, которая искажает самое себя и таит негасимую искру протеста.
Так или иначе, несомненно одно: жители Итапе хотели воздать должное Гаспару Море или хоть в какой-то мере восстановить справедливость по отношению к этому мастеру музыкальных инструментов, который, заболев проказой, ушел в лес и больше уже не возвращался в деревню. Правда, по молчаливому, возможно даже подсознательному, сговору имя его никогда не произносилось.
Я был тогда еще совсем мальчишкой. До конца моим свидетельствам верить нельзя. И теперь, когда я пишу эти строки, я чувствую, что к ребячьей наивности и страхам тех лет примешивается предательская забывчивость взрослого, забывчивость, которая многое похоронила в моей памяти. Не то чтоб эти записки отражали заново пережитые воспоминания. Нет. Скорее — желание искупить вину.
Читать дальше