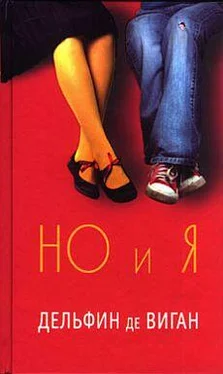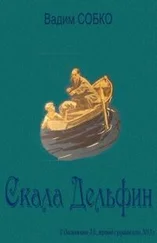В столовой, стоя в очереди, я снова думаю о маме, вспоминаю ее ожившее лицо, порывистые жесты, голос, который перестал звучать едва слышно. Мне все равно, как это можно объяснить, какие причинно-следственные связи можно выявить. Маме лучше, она приходит в себя, обретает вкус к жизни, а все остальное неважно.
После уроков Лукас ведет меня в бар «Боттэ», угощает кока-колой. Он находит, что у меня грустный вид. Пересказывает мне школьные сплетни (он всегда в курсе всего, так как знаком со всеми), пытается выведать причину моей грусти, но я не могу ему объяснить, потому что у меня в голове каша и я не знаю, с чего начать.
— Понимаешь, Пепит, у всех есть секреты. Некоторые так и должны оставаться внутри, там, куда мы их запрятали. Но я могу тебе открыть свой — когда ты подрастешь, я увезу тебя куда-нибудь, где музыка так прекрасна, что все танцуют прямо на улице.
Я не могу ни выразить, что творится со мной от его слов, ни сказать точно, где именно это творится, — где-то в районе солнечного сплетения, там что-то мешает дышать, я не решаюсь взглянуть на Лукаса, боясь выдать себя, и чувствую, как горячая волна разливается по телу. Мы сидим молча, а потом я спрашиваю:
— Ты веришь, что бывают на свете родители, которые не любят своих детей?
Не очень-то деликатно спрашивать об этом Лукаса, с его отцом на другом краю света и матерью с повадками залетного ветра. Я часто жалею, что произнесенные слова нельзя стереть, что не существует специальной ручки, способной аннулировать бестактность еще до того, как ее услышали.
Лукас закуривает, переводит взгляд на пыльное окно. Потом улыбается.
— Я не знаю, Пепит. Не думаю. Мне кажется, все гораздо сложнее.
Как-то мы с Но фотографировали. Лукас где-то откопал старый отцовский фотоаппарат, пленочный и совсем допотопный. В коробке с фотоаппаратом нашлось несколько нетронутых катушек, мы решили попробовать, пока Лукас был на уроке гитары. Соорудив на голове ведьмины космы (Лукас одолжил нам гель, чтобы волосы стояли дыбом), мы поставили фотоаппарат на автоспуск и фотографировали себя. Через несколько дней мы втроем пошли получать фотки, уселись неподалеку от ателье, так не терпелось посмотреть. Цвета выглядели немного поблекшими, будто фотографии долго висели на стене, Но хотела их все разорвать, настолько она показалась себе отвратительной, сказала — смотри, какой я была красивой в детстве, и достала из сумки свое детское фото, единственное сохранившееся, она мне раньше его не показывала. Я долго разглядывала снимок.
На карточке ей было, наверное, лет пять или шесть, аккуратная челка, две тугие косички, улыбка, есть в детском лице что-то такое, что вызывает сочувствие, Но смотрит прямо в объектив, трудно различить, что находится позади нее, библиотека или школьный класс, но это неважно — она совсем одна, это видно по тому, как сложены ее руки, по той пустоте, что ее окружает. Маленькая девочка, одна в целом мире. Девочка, которую бросили.
Очень гордая, Но забирает фотографию, повторяет — видишь, какая я была красивая в детстве? Не знаю почему, но в этот момент я вспомнила о репортаже, который видела по телевизору несколько месяцев назад, о детях в сиротских приютах, я так сильно плакала, что отец отправил меня спать, не дав досмотреть до конца.
— По правде, тебе совершенно наплевать…
Вот уже несколько дней Но пребывает в дурном настроении, запирается в своей комнате, а когда мы остаемся одни, раздражается по каждому пустяку. Меня это огорчает, но я помню, как отец однажды сказал, что неприятным и грубым можно быть только с самыми близкими, с теми, кому бесконечно доверяешь (ведь мы знаем, что они нас все равно любят). Я заметила, что Но потихоньку таскает лекарства у мамы, «ксанакс» и тому подобное, я застала ее в ванной в тот момент, когда Но закрывала упаковку. Она потребовала, чтобы я молчала, будто я какая-нибудь ябеда. Ей необходимо успокоительное, но его можно получить только по рецепту, так написано в медицинской энциклопедии, Но пообещала обязательно сходить к врачу, когда получит полис. Я знаю, что у нее проблемы на работе. Она возвращается с каждым днем все позже, устает все больше, порой даже отказывается от ужина, говорит, что не голодна, по ночам бродит по дому, включает воду в ванной, открывает и закрывает окно, не один раз я слышала, несмотря на закрытую дверь, как ее тошнит в туалете. Родители ни о чем не подозревают, мама принимает снотворное, а отец всегда спит очень крепко (когда он был маленький, даже работающий рядом пылесос был неспособен его разбудить). Из Китая он привез для каждой из нас по маленькому амулету на красном шнурке, я повесила свой над кроватью, потому что знаю, все плохое происходит по ночам. Свой амулет Но привязала к пуговице на куртке. Она получила первую зарплату, половину чеком, половину наличными. Шеф не рассчитал ее сверхурочные. Сказал, что если ее что-то не устраивает, то она может убираться на все четыре стороны. В тот же день она наплевала ему в кофе, хорошенько размешав слюну с кофейным порошком, чтобы он ничего не заметил, и повторяла это все последующие дни. Ее шеф — толстая свинья, он готов придушить родную мать, чтобы только сэкономить, он обсчитывает клиентов и все время обделывает темные делишки по телефону. Так рассказывает Но. Он постоянно придирается, что Но все делает медленно, слишком долго возится в каждом номере, а ведь еще надо сдать белье в прачечную, помыть холл и коридоры. В то же время он признает, что кое-что у нее прекрасно получается. Шеф уволил одного из барменов и не стал искать ему замену, теперь Но должна обслуживать клиентов, пока ее не сменит вечерний бармен. Она не хочет рассказывать об этом родителям. Говорит, что это неважно, но я-то знаю, что ее шеф явно не в ладах с законом, с налогами и всеми этими трюками.
Читать дальше