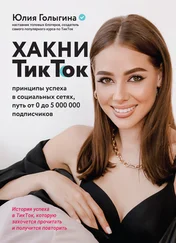— Если не мы, то другие, — подстегивало руководство.
— Лучше мы, — соглашался он. — Потому что мы лучше.
А теперь он всерьез задумался об ответственности, которую нёс, оккупируя чужое сознание, то, о чем сам много раз говорил вслух, и над чем в глубине смеялся. Что он проповедовал? За что ратовал? Разве ему нравилось то, чем он занимался? «Будешь потреблять — будешь потреблядь!» — стучало у него в голове, он ворочался с бока на бок, и ему не хотелось вылезать из-под одеяла. «Надо менять работу, — беззвучно шевелил он губами. — Иначе работа поменяет тебя». Сидор Куляш лежал в слепящей тьме и чувствовал себя постаревшим на десять лет.
Он опять и опять вспоминал интернетовскую группу. «И черт меня дернул, — думал он. — Они все живут по тем же законам. Что мне больше других надо? Кому я доказываю?» Не вылезая из-под одеяла, Сидор Куляш со всей силы врезал кулаком по подушке. Он вдруг живо представил заболевшего Модеста Одинарова, для которого начался обратный отсчет, мысленно примерив его судьбу. «И все приговоренные, — написал он ему тогда. — Считать ли дни от рождения или до смерти — не все ли равно?» Ему казалось, что эти отвлеченные рассуждения помогут Одинарову, который был для него лишь пользователем Сети, а теперь, вспомнив свой пост, Сидор Куляш застонал. От охватившего его глубокого отвращения к себе он снова ударил подушку.
«Боже, как я мог, как я мог… — шептал он. — Надо все срочно менять».
Что именно надо менять, Сидор Куляш не осознавал, как не представлял и каким образом сложится его дальнейшая жизнь, он думал о том, что на дворе было воскресенье, и видел в этом знак. Накануне, мучаясь бессонницей, он взял с полки первую попавшуюся книгу, ею оказался роман Толстого «Воскресение», и теперь он отождествлял себя с ее главным героем.
Жена открыла на кухне форточку, устроив сквозняк.
— Будешь завтракать?
Зажмурившись в темноте, Сидор Куляш на мгновенье снова погрузился в детство, когда бегал по берегу застывшего, никуда не звавшего моря, разделяя одиночество со стайками золотистых рыбок, пока мать скользила по нему равнодушным взглядом, и подумал, что так никуда и не делся с того пустынного, пахшего тиной пляжа. Под одеялом становилось жарко, по его жирному телу лился пот.
— Будешь завтракать? — снова позвала жена.
— С тобой всегда! — вскочил Сидор Куляш так резко, что у него закружилась голова.
Он вдруг понял, что у него больше никого нет, кроме этой располневшей, нелюбимой женщины, с которой придется делить остаток дней. «И это хорошо, — уверенно проговорил он про себя. — Слава богу, что так, могло быть и хуже».
Прежде, чем сесть за стол, Сидор Куляш дал себе слово больше никогда не появляться в группе, которая оставалась к нему равнодушной, как
Лето уже показало спину, и осень стреляла грозами из желтого пистолета. С уходом Даши Авдей Каллистратов одичал. Вставал он все позже, когда солнце уже проходило зенит, а бриться перестал, отпустив бороду, делавшую его похожим на черномора. Время Авдей Каллистратов проводил в бесцельной маете, вышагивая по квартире, пересыпал из пустого в порожнее песок прошедшего, в котором вместе с ошибками были похоронены последние надежды, и ему казалось, что жизнь, как незнакомка со страусовыми перьями над темной вуалью, промелькнула за окном, пока он сидел в грязном, прокуренном трактире.
В последний месяц у Авдея Каллистратова все чаще возникал космический взгляд на мир, когда вещи, события и собственная жизнь кажутся ничтожными и случайными, как пыль на окне. Эти мысли о всеобщей бренности заставляли впасть в тупое оцепенение, и одновременно, глядя на полки с классикой, он сгорал от зависти. Это его удивляло. Он не мог понять, как могут в нем уживаться столь противоречивые чувства. Чтобы разобраться в этом, Авдей Каллистратов завел дневник, но, открывая его по нескольку раз в день, заносил на его холодные, равнодушные, как Вселенная, страницы, всего одно слово: «Графоман». Так проходила неделя за неделей, а в те редкие дни, когда он выбирался на презентацию чьей-нибудь книги, был раздражителен и несдержан.
— У вас легкий стиль, — отпускали ему обычный комплимент.
— Легко читать, легко забывать, — скрипел он зубами. — Одним словом, легче пустоты.
Он тряс бородой и делал такое лицо, что его стали сторониться. Очень скоро Авдей Каллистратов обрел репутацию неприкасаемого, которого выбросили из литературных кругов, предав страшнейшей из анафем — забвению.
Читать дальше