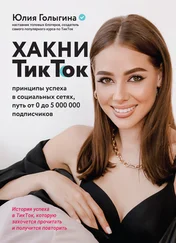Это не понравилось никому.
«Не хочу быть кузнечиком, — написала «Дама с @». — А тем более саранчой!»
«В отличие от муравьев люди думают», — поддержала ее «Ульяна Гроховец».
«Думают? — набросился на нее «Сидор Куляш». — А может, им только кажется?»
Это опять никому не понравилось.
На работе Сидор Куляш мог поддержать любой разговор, но особенно любил рассуждать о марках автомобилей, которые вызубрил, как алфавит. Машину он водил, как гонщик, не разбирая дороги, нарушая правила, а когда ему выписывали штраф, доставал туго набитый бумажник:
— За удовольствие надо платить.
— А не жалко? Так можно себе права обезобразить.
— Ну что вы, штрафы украшают мужчину.
Принимая окружающее, Сидор Куляш подчинялся его законам, но в отличие от Захара Чичина, не сомневался в его целесообразности. «Все действительное разумно, — любил повторять он. — Просто неудачники этого не замечают». В последнее время его мучила бессонница, он долго ворочался, перекручивая простыни, и, пытаясь уснуть, считал падавших в пропасть овец. Отделяясь от своего бесконечного стада, они по очереди подходили к обрыву, и, задержавшись ровно на столько, чтобы повернуться блеющей мордой, летели кувырком вниз. И Куляш в эти мгновенья вспоминал отца. «Эх, Сидор, — защемив двумя пальцами, трепал он его толстую щеку. — В жизни надо карабкаться вверх, не скатиться и не стать только тенью на грязном полу». Проваливаясь в сон вместе с падением последней овцы, которой было уже не суждено выбраться со дна, Сидор Куляш, как и в детстве, соглашался: «Да, папа, все проще простого». Сидор Куляш верил в свои таланты, в то, что видит мир насквозь, и у себя на работе привык быть оракулом, способным решить любую проблему. «На словах, — думал о таких Авдей Каллистратов, включая телевизор, где на экране мелькали разного рода эксперты, колумнисты ведущих газет и уверенные в своих прогнозах аналитики. — Они все решают на словах».
Журналистская работа приучила Сидора Куляша к бесцеремонности.
«Еще не все потеряно, — писал он заболевшему Модесту Одинарову. — Бывают врачебные ошибки, обратитесь к нетрадиционной медицине, съездите в Тибет». И с упоением рассказывал истории про чудесно излеченных, которые вычитывал в иллюстрированных журналах.
«Я бы таких бесплатно убивал, — возмутился «Раскольников». — Ты будто и на свете не жил».
«В другом мире, — парировал «Сидор Куляш». — Я живу в другом мире».
И сам в это верил.
«Где деликатные, утонченные? — читая его посты, думал Авдей Каллистратов. — Где чеховские герои?» И опять у него всплывали художники на даче, отказавшие ему в интеллигентности. «Много понимают, — хмыкал он. — Знали бы с кем сравнивать». А ведь было время, когда Авдей Каллистратов участвовал в его передаче.
— Сегодня у нас в гостях статусный писатель, — представил его Сидор Куляш.
Его передернуло, но он не подал вида, продолжая широко улыбаться:
— Очень приятно.
Теперь Каллистратова заливала краска стыда при одном воспоминании об идиотских вопросах, на которые он давал не менее идиотские ответы: «При написании романов вдохновляют ли вас какие-то случаи из жизни или вы целиком полагаетесь на свою фантазию?» «О, да, конечно, если позволите так выразиться, моим пером водит сама жизнь»; «Разделяете ли вы распространенное в последнее время мнение о смерти искусства?» «Ни в коем случае! Искусство вечно, оно умрет вместе с человечеством» и т. д. и т. п. «Какая чушь!» — подумал он сразу после эфира.
— По-моему все прошло замечательно, — полувопросительно, полуутвердительно сказал Сидор Куляш.
— Как по нотам, — кивнув, подтвердил он.
— С известными людьми у меня всегда так.
Когда речь заходила о знаменитостях, Сидор Куляш позволял себе заочное панибратство, называя их уменьшительными именами, будто вчера с ними расстался, а на самом деле был им едва представлен или водил шапочное знакомство. Он знал, что в глазах собеседника это повышало его собственную значимость, и отжимал трюк до конца, направо налево козыряя своими вымышленными связями.
Теперь Авдей Каллистратов оставался инкогнито, и мог высказать Сидору Куляшу все, что думает. Через месяц возобновленного под чужим именем знакомства он его уже ненавидел, но, странным образом каждый раз пытаясь его ужалить, невольно ему подыгрывал. Как тогда, после эфира.
«Зачем я пишу? — спрашивал в группе «Иннокентий Скородум». — Выразить, что я чувствую, невозможно. У искусства свои законы, и дело не в моем таланте. Тогда зачем?»
Читать дальше