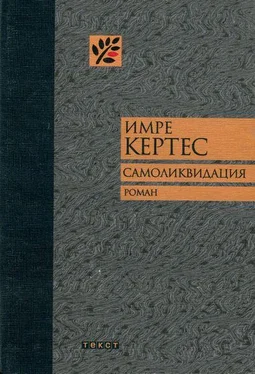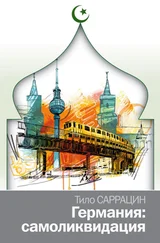Адам
Он убил в тебе твое дитя
Ты убила его книгу
Сожгла ее как в печи Освенцима
Пожалуй это достойная месть
подсознательная как говорят
Не стану допытываться кто из вас
убийца
но страшно туда смотреть
я лишь теперь начинаю видеть Видеть
и понимать
понимаю страсть
понимаю страх
понимаю стремление спрятаться
понимаю что значит
быть евреем
Понимаю приговор
понимаю понимаю
Юдит
Ты был ни в чем не повинным
и сильным
Теперь всему конец
Я знала все так будет
что он придет следом за мной
втопчет в грязь
перемелет в руках
Я знала спасенья нет
Адам
У меня двое детей
Двое полуевреев
Кто расскажет им об Освенциме
Кто скажет им, что они евреи
Юдит
Все ушло чем я восхищалась в тебе
Ты стал слабым истеричным трусливым
и остроумным
Адам
Путь они узнают это не от еврея
Я сам им расскажу
Чтобы они учились не страху
Юдит
Но тебя ведь уже одолевает страх
Как хорошо мне известно это Адам
Как я этого не хотела
В этом вся моя жизнь с Б.
Иногда он срывался терял самообладание
Стыдно жить кричал он хватаясь
за голову
Стыдно жить Стыдно жить
Люби меня умоляла я его
Умоляла возьми себя в руки
Стыдно жить Стыдно жить
Люби меня умоляла я…
(Внезапно смолкает. Недолгая тишина.)
Адам
Юдит
Это наш единственный шанс.
Адам
Любить! ( Внезапно принимается хохотать. )
Юдит
Любить! ( Истерический смех заражает и ее. )
(Адам хватает со стола какой-то легкий предмет — скажем, пачку сигарет — и бросает его в Юдит. Юдит тоже хватает что-то — скажем, подушку со стула — и целится ею в Адама.
Между ними разыгрывается нечто вроде дуэли: это игра, но в ней есть что-то жестокое, что-то опасное. Летят предметы, подхваченные со стола, со стульев, и вместе с ними перелетает от Юдит к Адаму, от Адама к Юдит слово, которое они выкрикивают с разной интонацией, с разным эмоциональным наполнением.)
Оба
Любить! Любить! Любить… Любить! ( Летают в воздухе слова, летают в воздухе предметы. )
ЗАНАВЕС
Кешерю уронил с переносицы очки для чтения, висящие на цепочке, и устремил неподвижный взгляд на плавающие в воздухе, в лучах льющегося в окно предвечернего солнца, пылинки, похожие на каких-то отвратительных микробов, которые устроили в комнате свой торжествующий хоровод. Как каждый раз, когда он брал в руки пьесу, его и сейчас охватило неприятное чувство, будто его обманули и ограбили. Была среди рукописных заметок ремарка, своего рода напоминание, которое авторы часто записывают для себя — на бумаге или на магнитной ленте, — чтобы в творческом порыве не забыть о том, что они, собственно, пишут. Ремарку эту Кешерю сейчас не стал выводить на экран: он читал ее столько раз, что давно выучил наизусть. «В основе этой пьесы, — говорилось в ремарке, — лежит роман. Таким образом, реальностью произведения является другое произведение. К тому же это другое произведение — роман — в полном объеме нам не известно. Не известно в такой же степени, как не известен и не понятен Сотворенный мир: то есть оно для нас столь же смутно, сколь смутен для нас этот мир, который мы называем и другим словом — „реальность“. Он, этот мир, в такой же степени фрагментарен, но в такой же степени и познаваем: ведь живем мы в соответствии с логикой его, данного нам мира».
Вот только реальность, данная Кешерю, ввиду произвола данного сюжета просто исчезла из поля зрения Кешерю, и теперь он смотрел неподвижным взглядом туда, где она должна была быть, смотрел так же, как смотрел на хаотический танец пылинок; танец этот был словно некая надчувственная речь знаков: завораживающим и непонятным. Как каждый раз, когда Кешерю подходил к финалу пьесы, он и сейчас задал себе гамлетовский вопрос, который для него звучал не как «быть или не быть», а — «есмь я или не есмь?». И немудрено: ведь его мир был мир рукописей, жизнь его всегда протекала между рукописей, вращалась среди рукописей; можно сказать, рукописи со всех сторон окаймляли его жизненный путь, — так что если роковую развязку своей судьбы он тоже в конце концов обнаружит в рукописи — рукописи, которая была сожжена, — это не будет напрочь лишено логики.
Читать дальше