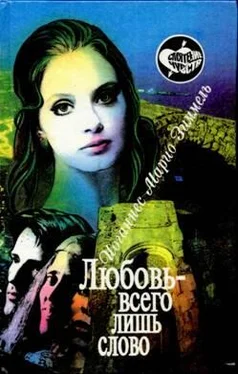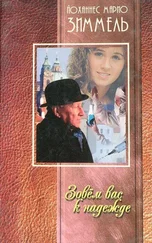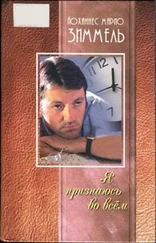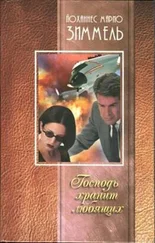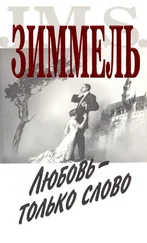Я оглядываю класс. Ной поднимает руку. Кроме него — больше никто. Даже Зюдхаус.
Тот сел на свое место. Видно, что его «разбирает псих», как любит выражаться Ханзи. Лицо его полыхает. От бешенства. Ясно, будь мой папаша старый нацист, у меня бы тоже лицо полыхало. Собственно, этот Зюдхаус должен вызывать скорее жалость. Ведь человек — продукт своего воспитания.
— Вы не хотите ехать с нами, Гольдмунд?
— Нет. Я попросил бы вас разрешить мне остаться здесь.
Доктор Фрай смотрит долгим взглядом на Ноя, родители которого погибли в газовых камерах Освенцима. Ной спокойно отвечает ему взглядом.
— Я понимаю вас, Гольдмунд, — произносит наконец доктор Фрай.
— Я знал, что вы меня поймете, господин доктор, — говорит Ной.
Доктор Фрай обращается к остальным:
— Итак, решено. Гольдмунд не едет. Мы выезжаем пятнадцатого в девять часов утра.
И тут Вольфганг начинает аплодировать — Вольфганг, сын военного преступника.
— Что с вами, Хартунг?
— Я нахожу, что вы великолепны, господин доктор.
— Я запрещаю всякого рода выражения симпатии, — говорит тот.
И вот теперь я рассказываю обо всем этом Верене в нашей башне.
Вдруг она начинает улыбаться.
— Пятнадцатого? — спрашивает она.
— Да.
— И шестнадцатого вы, стало быть, будете в Мюнхене?
— Да. А семнадцатого мы едем назад. А что?
— Только что я сообщила тебе плохую новость, а теперь у меня для тебя хорошая. Шестнадцатого я буду в Мюнхене. Одна!
— Что?
— Один друг моего детства женится. Манфред — я хочу сказать, мой муж, — Терпеть его не может. Этот друг просил меня быть одним из его брачных свидетелей. Бракосочетание состоится в девять часов. И если Дахау рядом с Мюнхеном, то вы вернетесь туда где-то после обеда.
— Да.
— Ты приедешь ко мне… в гостиницу… У нас будет полдня… вечер… и ночь, целая ночь!
Я судорожно сглатываю. Я всегда так делаю, когда сильно волнуюсь.
— Через четыре дня, Оливер! В Мюнхене! В городе, где нас никто не знает! В городе, где нам нечего бояться! Без спешки! Масса времени!
— Да, — говорю я сдавленным голосом.
Она снова рядом со мной, обнимает меня, снова смотрит в глаза и шепчет:
— Я так рада…
— И я тоже.
Мы еще раз целуемся. Так же, как и до этого. Так же, как мы, наверно, будем целоваться всегда. Потому что это любовь.
Во время поцелуя, когда все вокруг начинает кружиться — стропила, подпирающие крышу, стенные проемы, хлам вокруг нас, все, все, все — я вдруг думаю: Верена и концлагерь Дахау. Концлагерь Дахау и Верена.
Чудное сочетание, не находите? Дурной вкус, не так ли? Жутковато, правда?
Я скажу вам, что это такое.
Это любовь в году одна тысяча девятьсот шестидесятом от Рождества Господня.
В следующие двадцать четыре часа я совершаю три роковые ошибки. Все три из них будут непоправимы. Каждая из них будет иметь свои последствия, тяжкие последствия. И я буду вести себя как последний идиот — я, который всегда мнил себя таким молодцом.
Но все по порядку.
Верена опять первой покидает башню. Я выжидаю пять минут и затем следую за ней. Выйдя из каменных руин и пройдя около ста шагов, встречаю идущего мне навстречу господина Лео, Верениного слугу, — маленького, сухопарого, высокомерного и самоуверенного. С ним боксер Ассад, которого он выгуливает. На этот раз Лео одет в серый потрепанный костюм и рубашку с сильно заношенным галстуком.
— О, добрый день, господин Мансфельд!
Он преувеличенно низко кланяется.
— Добрый день.
— Наверное, осматривали старую башню?
— Да.
— Древняя постройка. — Сегодня у господина Лео грустный вид. Его лицо выглядит еще более длинным и гладким, губы — как две тонкие черточки. — Говорят, ее построили еще древние римляне.
— Да, мы это проходили в школе.
Он вздыхает.
— Почему вы вздыхаете, господин Лео? (А вдруг он видел Верену?).
— Вот вы говорите, господин Мансфельд — тихо, Ас-сад, тихо! — вот вы говорите: «Проходили в школе». Вы учитесь в дорогом частном интернате, господин Мансфельд. А я, пардон, пожалуйста, если говорить об учебе, закончил лишь народную школу. Мои родители были бедняками. А я так жаждал знаний. (Он так и сказал: «Жаждал!» Люди порой говорят просто забавные вещи!) Поверьте, я несчастный человек, господин Мансфельд. Даже сейчас — в мои сорок восемь — мне хотелось бы чего-нибудь еще добиться. Ну, хотя бы где-нибудь на селе открыть свою гостиницу или ресторанчик. Не очень-то приятно быть слугой! Можете мне поверить!
Читать дальше