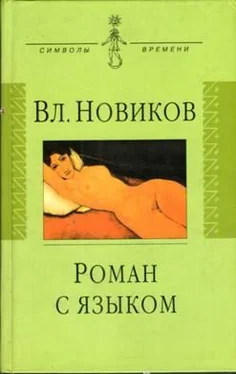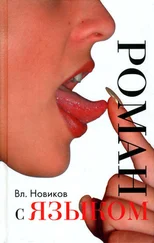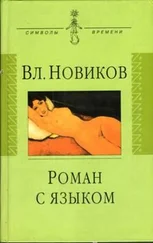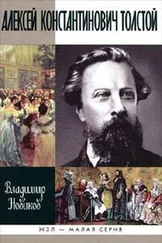В таких случаях ждешь неожиданности, повода для бегства, и просто подарком звучит телефонный голос все той же неизбывной Сьюзен, уже три дня проживающей в академической гостинице с тараканами, но проявившейся только сейчас и имеющей для меня соблазнительно-пригласительное письмо из Калифорнии, за которым я должен прибыть незамедлительно, поскольку у подруги моей сегодня еще три встречи, а вечером отъезд в Питер, откуда она отбудет уже непосредственно в Сан-Франциско. Ладно, еду.
Гостиница действительно академична, то есть все здесь старое и облезлое, но насчет тараканов — типичная антисоветская гипербола (ну где они? покажи хотя бы одного); тут же к Сьюзен подваливает еще одна гостья, а woman of no importance неопределенного возраста и цвета, и я, упаковав заокеанское письмо во внутренний карман, ближе к сердцу, дипломатично вытекаю на Ленинский проспект. Между прочим, люблю его, и вообще Москва для меня не сводится к набору таких общих лирических мест, как Арбат, Чистые пруды, пречистенские и сретенские переулки с их внутренними дворами. Москва бывает еще и юная, длинноногая, не обремененная тяжелой исторической памятью. Так смотрится она своими проспектами (само слово «проспект» появилось на карте города меньше, чем сорок лет назад, в весенне-оттепельное время), особенно Кутузовским и вот этим, по которому я вместе с отцом и его институтом ходил на майские и октябрьские демонстрации. По красным транспарантам отнюдь не ностальгирую, они тут ни при чем — просто остро-прустовских воспоминаний, недочувствованных эмоций, недодуманных мыслей здесь много развешано. Когда я в последний раз проходил мимо серости Госстандарта и желтизны Жолтовского дома? И что здесь так радикально изменилось — никак понять не могу.
Где-то напротив Минералогии до меня начинает доходить, что изменился не район, перестроилось зрение мое, острым лучом вылавливающее из толпы все, что напоминает Настю: рыжие ли волосы, круглые сверкающие плечи или еще какие-нибудь сегменты разогретых майским солнцем девичьих тел — или же просто то суперсегментное свойство, что зовется юностью. Столько ведь лет мой взор был надежно от всего этого защищен профессионально-педагогическим фильтром: любая девица, потенциально годившаяся в студентки и даже в аспирантки, автоматически выводилась из зоны моего мужского внимания. Известную роль, конечно, сыграли и годы с Тильдой, превратившие меня в своего рода анти-Гумберта, равнодушного к невзрослой, не проросшей женственности, и годы с Делей, не позволявшей сводить с себя взгляд куда бы то ни было. Так или иначе, вчерашняя Настя словно удалила бельма с моих зениц и зрачков, повернула меня лицом к природе. Казалось бы, такое прозрение — факт достаточно тривиальный, типологический: эльзасский психолог Эльсон-Плюфреш подобную метаморфозу описал еще в те времена, когда Фрейд даже родиться не успел, но что мне с того, что я об этом уже читал («дежа-лю» — так я по аналогии с «дежа-вю» определяю чисто книжный, умозрительный опыт), когда я это переживаю в данный момент и еще не знаю, как переживу, куда меня теперь занесет нелегкая!
Крупная сочная капля шлепается на мое темя, и серый тротуар начинает делаться пятнистым — надо прятаться, иначе чего доброго этот дощ-щ-щ (именно в старомосковском орфоэпическом варианте, а не коротенький «дошть») доберется до американской бумаги в кармане, подмочит мои международные позиции. Укрываюсь под аркой, и тут же меня чуть не сбивают с ног залетающие вслед за мной две дико хохочущие дурочки, постриженные по новейшей моде, как липы на аллее в Сен-Жермен-ан-Ле: снизу, над шеями, очень коротко, а нависающим кронам волос оставлена густота; обе с щекастыми личиками-бутончиками и беззастенчивым натуральным ароматом, особенно ощутимым на фоне грозовой свежести и запаха влажной пыли. Черт, оказывается, и ноздри мои были прежде зарешечены от всех этих набоковских «знойных душков», старался я не обонять то, что слишком молодо по моим понятьям. Что же проснулось на старости лет? Стыдиться или удивляться?
Чья-то тяжелая лапа ложится на плечо — я нервно оборачиваюсь и уставляюсь в нечто древнее, седое, неопрятно-расплывчатое и снисходительно-глумливое:
— Что ж ты, как неродной, проходишь мимо и не заглянешь даже к товарищу по несчастьям?
Если бы еще вспомнить, как товарища зовут! Что-то такое мерещится в районе семидесятого года и Малой коммунистической улицы, где собирались мы у бывшего одноклассника в красном доме слева от храма Мартина Исповедника. Старше других был там мгимошный раскованный юноша, только что вернувшийся из Штатов, по фамилии Хренников и по кличке, естественно, Хрен. А вот христианское его имя — хоть убей, ладно сориентируемся в процессе. Дождик все-таки лучше где-то пересиживать, чем так вот перестаивать.
Читать дальше