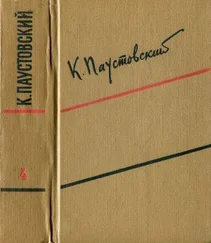Майка тащилась с горы, а «Детский мир» за ее спиной удалялся чуть не со скрипом. Майка шла все ниже и ниже, а дом впереди, до соли в глазах похожий на ее собственный, вырастал возмутительно неторопливо.
Все ниже и ниже.
Вот уж и в ушах от густоты стало потрескивать, а дыхание перехватывало. Что-то подобное Майка вновь ощутила через 11 лет, совершая восхождение в горы.
Разве не странно? Майка спускалась, а сама испытывала тяготы альпиниста, который бредет к вершинам сквозь тучи, сквозь облака, сквозь плотные небесные струи…
— Умпа-умпа-умпа… — Никифор напевал что-то, махал руками, а на шее его попыхивал красный галстук.
Подпрыгивая рядом с Майкой, Мойсла пел какой-то бравурный марш на иностранном языке, а Ратла катился следом, на безопасном от людей отдалении. Обнаружив способности к мыслечтению, апельсиновый жужик все время хулигански демонстрировал свои новые таланты, почти дословно приводя самые разные думы — о том, например, что Майка все время куда-то идет, что-то смотрит, а надо бы, может, встать, собрать все чудеса в кучку и разложить их по полочкам…
— …а то какая-то каша получается в голове, будто я совсем дурочка, — плюнул жужик Майке в спину ее же собственными мыслями.
— Этот май баловник, этот май чародей, — низким женским голосом пропел синий Мойсла, настроившись на другую волну.
— Умпа-умпа… чую-чую, — сказал Никифор, — будет нам флаг.
— Зачем вам флаг? — спросила Майка.
— Как зачем? Чтобы быть впереди, — он счастливо улыбнулся. — Призвание с центральным приводом — такая честь не каждому выпадает. А тебе выпала. И нам, соответственно, тоже.
— Кому «вам»?
— Всему «Детскому миру». Как ты сюда попала? С чьей легкой руки и левой ноги? — он с шумом вдохнул тяжкий воздух. — Нет, дадут нам флаг. Точно дадут. Сама Прима… — он был готов запеть.
— Зачем этот флаг? Глупость какая-то, — выдал Майку Ратла.
— …ммунисты. Нет звания выше! Нет главней и почетней знамен, — взвыл Мойсла.
— А кто она? Эта Прима? — спросила Майка.
— О! Она такая! — Никифор изобразил руками нечто расплывчато-извилистое.
— Как президент? — важнее человека Майка не знала.
— Прима много царствует, но редко правит. Она возвышается.
— Как королева?!
— Да, как королева-мать. Или даже королева-бабушка.
— Но не бабка? — уточнила школьница. Серафима Львовна, конечно, заслуживала уважения, но испытывать к ней обожание Майка не собиралась.
— Бабка? Так нельзя говорить! Ни в коем случае! — Никифор испуганно замахал руками, будто спасаясь от полчищ кусачих мух.
— Кошмар! Кощунство! — зашипел вслед за ним Ратла.
— Как смешно, — сказала Майка. — Теперь я получаюсь центрально-приводная девочка. Ха-ха, — сказала она деланно. — Ха-ха.
А ход, и без того трудный, застопорился вдруг.
— Мороженое, — озвучил неизвестно чью мысль проказник Ратла.
Большая мороженая куча лежала на их пути. Лежала и не таяла, как будто на дворе не май цветет, а февраль мается. Подойдя поближе, Майка увидела синеватые колкие многоугольнички, сваленные, как попало, и сплошь покрытые инеем.
— Какое интересное произведение искусства, — сказала Майка.
— Какое искусственное произведение интереса, — сказал Никифор.
— На вернисаже как-то раз… — закричал Мойсла.
— Чепуховина, — сказал Ратла, а Майка от этого щекотного слова громко чихнула.
Рой снежинок отлетел к небу, и из бесформенной мороженой кучи образовался фигуристый объект: Перед ними стояла большая ледяная птица.
Голова у птицы была котелком, нос — крючком, перья — торчком, а бугристые сильные лапы впивались в землю, будто с трудом удерживая громадину во всей высоте и целости.
Снежно-голубая птица торчала, не выказывая никаких признаков жизни.
— Она живая? — спросила Майка.
— Еще как, — заверил Никифор.
— И что нам делать?
— Мне-то откуда знать? — пожал он плечами. — Не я же звал.
— А кто звал?
— Я-ма-а-айка! — как резаный, завизжал Мойсла. — Я-майка! Я-майка! — а дальше сбился на иностранные слова, которые девочка не поняла.
Впрочем, и так было ясно — Майке опять надо было принимать решение. Это по ее милости торчит на дороге отмороженная птица в неснежное время.
Чем дольше Майка глядела на птицу, тем труднее ей было. Птице чего-то не хватало. И клюв здесь был, и лапы, и перья. «Динь-дон», — едва не пропела она, наткнувшись наконец на самое очевидное. Ледяная птица была слепа. На том месте, где должны бы сиять глаза, место было совсем пустым — белоснежным, как неразрисованный альбомный лист.
Читать дальше