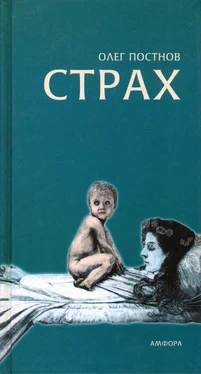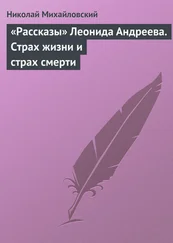Да, конечно, это я был беглец, к чему маскарад слов? (думал я дальше). Я дважды бежал — из тюрьмы и в тюрьму. И последний побег был последним. Все-таки, верно, я был прав со своими хронологическими числами. Чтобы верить, как Цезарь, что твоя мать Венера, нужно жить в неподвижном мире, где прошлое не в счет. Я это и делал, пока мог. Может быть даже, что Настя так это и поняла. Тете Лизе, однако, объяснить это было бы сложнее. И я махнул на все рукой, решив воспользоваться в беседе с ней (вестимо, неизбежной) ворчаньем о несродстве душ из бытового юридического арсенала, — версия, которую отрицаю на деле с таким же пылом, как и любые инсинуации из области секса или дилеммы полов.
От этого мне стало наконец легче. Дня через два я вышел пройтись. Квартира за это время приняла свой обычный вид. Комод выдвинул невпопад ящики-балконы. Шкаф выглядел так, словно его только что перед тем рвало бельем. Откуда-то по всей гостиной взялись грязные рюмки и стаканы, будто кто-то уже без меня продолжал тут траурный ужин (больше похожий на оргию из сумасшедшей речи марктвеновского Короля), и трудно было найти в обувной стойке пару штиблет. Мой пиджак висел средь полотенец в ванной. Я, впрочем, может быть, вру, и прошло тогда вовсе не два дня, а четыре, а то и все шесть. Зеленые сумерки сгущались.
Я свернул со двора, миновал шумный проспект и углубился в сеть переулков, хорошо известных всякому жителю центра. Признаюсь, я их не любил, как любил, например, киевские дворы. Может быть, оттого не замечал как следует, куда иду. «Камо грядеши?» — спросил Сенкевич с дедовской медной медали. Нет, не Сенкевич, но какой-то поляк, это точно: и не спросил, а сказал что-то такое, чего я не понял. Хотя, как всякий хохол, понимаю польский. Но, как бы там ни было, он вернул в этот мир мой рассеянный взгляд — и не зря (сам же канул за угол).
Уже почти смерклось. Вдруг я заметил, что обычное оживление на улицах совсем не похоже на то, что окружало теперь меня. Я слышал возбужденные голоса, все куда-то спешили, радостно и непонятно смеялись чему-то девушки, что-то как будто переходило из уст в уста, минуя, однако, мой не вполне отлаженный еще слух, так что я никак не мог понять, о чем речь. В воздухе пахло крепко, то есть почти так же, как и всегда, — выхлопами, соляркой, — но только сильней. И далекий гул города тоже словно разросся, словно где-то поблизости он перешел в рев. Вдруг небывалое зрелище трехцветной кокарды остановило мой взгляд. Я и сам остановился, ибо в конце переулка увидел смутную (не без зелени, признаюсь) толпу, над которой реяло то же невозможное трехцветное знамя. Потом наконец слово «танки» достигло моих ушей. Впрочем, сам я никаких танков не видел, да и переулок был почти пуст. Зато где-то вдали отчетливо прострекотала автоматная очередь. «Ага, ну вот», — помнится, подумал я со странным злорадством, ни к чему, собственно, не относящимся. Сам я не был взволнован, ни даже заинтересован — даже в той степени, чтобы пойти что-нибудь узнать. Пойти, однако ж, мне хотелось — куда-нибудь, все равно: дальше, вперед, просто для завершения моциона. И не стоять же ни с того ни с сего на месте! Я двинулся по проулку — знамя и люди в конце его давно исчезли, — решив, что если в городе бунт, то можно проверить, был ли прав Пушкин. Эту мысль я додумывал про себя, лежа уже на асфальте. Тут я узнал, что вовсе не прав был Толстой. Никакой такой бури чувств, воспоминаний, сожалений, надежд и страхов, как у убитого наповал шрапнелью трусливого Праскухина, у меня в голове не случилось. Я только ощутил толчок и ожог в плече, и острое, почти чувственное наслаждение болью, успел, правда, сказать — не знаю уж, вслух или нет: «Повесть, законченная благодаря пуле. Грин». — и на этом лишился чувств. Как уже понял читатель, именно так я встретил вечер девятнадцатого августа девяносто первого года. Констатирую: он был тёпл.
Том Сойер тоже спасал негра Джима; ему, впрочем, угодило тогда в ляжку. Пуля, которой в свой черед был инкрустирован я (желающие вправе вообразить хруст, которого не было, к тому же я никого не спасал), была, однако, из той же породы безвредных дур, что клюют на излете: она даже не раздробила мне плечо. Очнулся я, правда, в клинике, за перевязкой и, так сказать, в свете софитов. «Ну вот, еще один защитник отечества», — сказал надо мною врач в толстой марлевой маске и со злыми глазами поверх нее. Я вяло ему возразил и узнал, что вполне сносно владею речью. «Сесть можете?» — спросила сестра, тоже в марле, чуть погодя. Я сел. «Ну, строго говоря, это вообще не рана, — сказал врач. — Вы далеко живете?» Я назвал адрес. «Гм, это рядом. Ладно, мы вас подбросим, сидите теперь дома. Под мамашиной юбкой, да. А будет температура, звоните 02». — «Я дойду сам», — сказал я, чувствуя прежнее бодрое подрагивание в ногах. «Не дурите! — обозлился доктор. — Мы тут к ночи ждем команду таких, как вы… Защитничков… (Он шепотом выругался.) А так бы валялись у нас до утра. Ткани-то все же задеты…» — «Я бы сбежал», — сказал я и вышел в коридор. Тут было пусто, но чувствовалось, что и впрямь что-то готовится. Длинной белой цепью вдоль стен стояли каталки. Шофер фургончика, который действительно отрядили мне, сказал, что «вечером будет штурм». Он всё хотел знать подробности — как там, на баррикадах. Я его разочаровал, как мог. Это отбило у него охоту провожать меня на этаж, и очень кстати: я боялся, что, узнав о моем одиночестве, они все же сунут меня к себе. А валяться на больничной койке отнюдь не входило в мои планы. Тете Лизе я тоже не стал звонить.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу