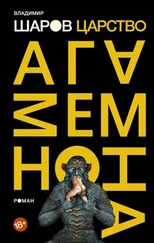Примирить Святую Русь с Писанием можно было лишь на символическом, полностью очищенном от истории, от того, что было на самом деле, прочтении его. В христианстве изначально огромную роль играло понятие святости места, освященности всего и вся, что было связано и что окружало Христа, что с ним соприкасалось или хотя бы стояло близко от него и получило, и сохранило часть его святости. И для русской церкви это было важно, но Новый Завет сделана была попытка понимать чисто словесно и условно, оторвать происходившее в Евангелиях от Палестины, от реалий палестинской жизни, и времени тоже; перенести и названия, и постройки, и действие в другое место, в Россию, сохранив в неприкосновенности и святость их и силу. Она победила в России и позволила создать все наново: и святой народ, и святую землю, и Иерусалим — святой град. Святость места была уничтожена, осталась лишь святость названия, святость имени. Была утрачена и побеждена важнейшая составляющая христианства — его историзм, то, что делало и жизнь, и судьбу Иисуса Христа однократной, необратимой, линейно направленной, а не развивающейся по кругу и, значит, ничего в ней не повторишь, ничего и никогда не вернешь».
Суворин умер в октябре 65-го года, у меня тогда начался третий год аспирантуры и я начерно перепечатывал диссертацию, чтобы дать ее ему на прочтение. Судьба настигла Суворина там, где, собственно, и должна была: в жизни его было две страсти — работа и женщины, он не разбрасывался, вторая, а по правде говоря, — первая и сгубила его.
Он умер, по всем понятиям, в расцвете сил — ему было 65 лет, но на вид нельзя было дать и 50-ти — в квартире своей аспирантки Нади Полозовой; злые языки утверждали, что не просто в квартире, но в ее постели и даже прямо на ней. Разговоры эти не затихали долго. Надю профессионально травили, а потом, чтобы закончить историю, отчислили из университета.
Ее вообще многие не любили, считали дурой и сумасшедшей. Всех раздражало, что к кому бы Надя ни шла, она так, что отказать было нельзя, просила встретить ее, а когда будет уходить, обязательно проводить до ближайшей трамвайной остановки. Она говорила, что сама дойти не может, потому что боится собак. Мы считали это идиотским кокетством, и когда надо было идти, ругали ее, как могли. Кажется, все же это было правдой. За месяц до смерти Суворина вечером мы с ней вдвоем шли по двору, и она, едва заметив вдали маленькую лайку, истерично схватила меня за руку, сжала, потом с силой толкнула вперед, так, что я оказался между ней и собакой и как бы прикрыл ее. Оглянувшись, я увидел, что она старается не закричать, стискивает зубы, и при этом ее лицо — глаза, скулы и особенно губы — беспрерывно двигается. Когда лайка ушла, Надя заплакала.
Сцена показалась мне преувеличенной и смешной, и я иронически спросил, откуда взялась эта собачья мания. Гладя мне руку, она сквозь слезы подробно и виновато стала объяснять, что до двух лет собак совсем не боялась, даже любила их, но дальше ей долго пришлось жить без матери, мать ее куда-то должна была уехать, одной с отцом, а он как раз боялся собак страшно, куда сильнее, чем она сама. Когда-то в детстве его покусала и чуть не загрызла овчарка. Отец не мог видеть собаку без крика. Раньше и она тоже кричала, но теперь научилась не кричать. Она замолчала, и я понял, что она ждет, что я похвалю ее и одобрю. Не зная, что сказать, я поцеловал ей руку. Немного успокоившись, она отпустила меня, пошла рядом и только скучно продолжала жаловаться, что ей всегда не везет: когда ее кто-нибудь провожает, собаки им почти не попадаются — сегодня редкий случай, — а если она одна, тут-то они ее и поджидают.
Травля Нади шла под знаком любви и преклонения перед Сувориным, которого, по общему мнению, она буквально з…бла; все сходились, что Надя была не в его вкусе, и то, что их отношения продолжались больше пяти лет, с ее второго курса, объяснялось ее почти нездоровой сексуальностью и грубым напором. Но это неправда. Надю не только выгнали из университета, но довольно скоро выжили и из города. Лет через пять я случайно встретил ее в Кемерове на педагогической конференции, ей еще не исполнилось тридцати, но выглядела Надя далеко не молодо. Мы тогда оказались в одной очереди в буфете, она, судя по всему, меня сразу узнала, а я понял, кто это, лишь когда увидел, что какая-то женщина делает все, чтобы я ее не заметил. На ее уловки я не обратил внимания, подошел, изобразил на лице живейшую радость и стал расспрашивать, что и как. Она так и не защитилась, хотя я помнил, что диссертацию Суворин написать ей успел, работает в школе, преподает историю от античности до наших дней, замуж не вышла и ни о чем не жалеет. Мы проговорили до начала заседания.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу