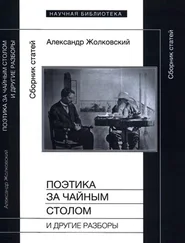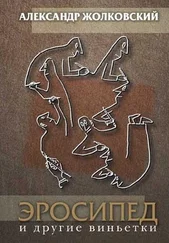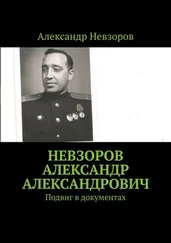Тут обрывалась и рукопись, но был еще один листок с припиской от корреспондентки:
«Р. S. Жаль, что в свое время мы не познакомились поближе. Потом Игорь пал несчастной жертвой своих завиральных идей, я вышла замуж, а Вы, я знаю, неоднократно переменяли местожительство…. Но, как видите, у нас есть что вспомнить, о чем поговорить. Почему я и позволила себе задержать одну рукописную тетрадку. Может быть, Вы навестите меня, и мы вместе ее почитаем.
Ваша Лена П.
(я опять взяла девичью фамилию)»
Уж полночь близится, — с некоторой оперностью напомнил профессору внутренний голос, — а положение пиковое, ни сна, как говорится, ни отдыха. Мне не спится, нет огня. Мер лихьт, кричат, мер лихьт. Пришли с огнем. Да уж, на огонь не поскупился, целую геенну развел. A глотать больше нельзя, доктор сказал, три, от силы — четыре. Но подсознание-то каково, как в аптеке, четыре таблетки — четыре трупа! Или пять? (Не считая, конечно, AС и аннигилянтов.) Ах, да, пятый должен быть я сам. Ты спал, постлав постель на сплетне, графиня изменившимся лицом… И все из-за бабы. (В конце она, наверно, совсем старуха. Наина?) A как же, раз бессонница — шерше ля фам. Когда бы не Елена, что Троя вам одна…?! Надо было еще тугие паруса как-нибудь к эрекции присобачить. A бабье лепетанье вышло неплохо, да и генетических пушек настругал… Не так уж, значит, трудно быть богом. Aй да З., ай да сукин сын! — привычно воскликнулось было где-то в глубинах души профессора, но научная добросовестность заставила усомниться в правомерности приписывания подсознанию собственного инициала. Оно ведь безличное, «оно», ид. Я имени его не знаю… Хотя — носят же собаки фамилии владельцев. Когда у Феди был эрдель по кличке Сержант, он числился Сержантом Скворцовым, что служило предметом бесконечных острот, ибо сам Федя, как интеллигент-очкарик, был необученный рядовой и о таких чинах мечтать не смел. В общем, мое подсознание — меня бережет…
Ну, не обязательно оно собака, разве что у озверевшего от страсти Маяковского. Скорее, старый крот — призрак, который под землей поспевает туда же, куда Гамлет поверху (додумались ли до этого фрейдисты?). Но чего оно тут только ни навертело, как говаривала перед смертью процентщица Алена Ивановна. Пушки, лазеры, иррадиация (плоды любимых усовершенствований — из одного топора теперь много не сваришь), апокалипсис полный, а зачем? Правильно, смысла я в тебе ищу. Ну, разумеется, из-за бабы, причем она же тебе и пишет, чего же боле, в тот день мы больше не читали. Графуня! — вскричал граф… Нет, хорошо проснуться одному! Ну, а глубже? Страх, естественно. Чего — рака? Допустим. (Отсюда и весь этот ресюр.) Или, проще, — старения. (Кстати, в большинстве изданий прямо стоит младость, причем без всяких скобок, а в 17-томном ее вообще нет; да там, собственно, нет и нрзб, но так эффектнее.) Чего еще? Ну, они скажут, кастрации, геворфенхайт и т. п. В общем, здесь пишет страх… A что если все эти страхи — чистейшей воды мотивировка приемов? Вроде того, как дрим-рекордер разрешает проблему повествования с петлей на шее, занимавшую еще Гюго, а за ним и нашего кроткого Федора Михайловича?
Хорошо, пусть пишет страх. Страх, но какой? Не предсмертный — его нет даже у Державина, хотя ода, так сказать, неокончена за смертью. A у Мандельштама, если какой и есть, то сугубо грифельный, графический, графологический, звездоносный и хвостатый. Но не графоманский, как у некоторых (простыни не смяты, поэзия не ночевала). A почему бы и нет? Вдруг время пощадит мой почерк от критических скребниц? Я буквой был, был виноградной строчкой, я книгой был, которая вам снится! Так что, единственное, чего нам следует бояться, это самого страха, и значит, можно еще одну, последнюю… Когда ж от смерти не спасет таблетка, — уютно отключаясь, но с сознанием драматической пограничности ситуации, думал профессор З., — есть сон такой, не спишь, а только снится, что жаждешь сна, что дремлет человек… A дальше так: Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот объясненье. Вот что удлиняет (или, наоборот, — сокращает? Шекспир-Пастернак-Пушкин, звезда с звездой, могучий стык!) нам опыты быстротекущей жизни… Знакомых мертвецов живые разговоры, знакомый труп лежал в пустыне той. Нет, как труп, в пустыне я лежал. В общем, Кавказ был весь, как на ладони, был весь, как смятая постель, спи, быль, спи жизни ночью длинной, усни, баллада, спи былина, хрр… храни меня, мой талисс… сс… сс…
Профессор спал. Ему снилась идеальная концовка: «С головой зарывшись в бесплотный шелест своего центона{Центон (от лат. cento — одеяло из разноцветных лоскутов) — стихотворение…. составленное из строк других стихотворений. В европ. лит-ре наиболее известны позднеантич. Ц. из стихов и полустиший Вергилия…, служившие средством выразить преклонение перед [ним] и показать эрудицию авторов (КЛЭ, М. 1975, т. 8, с. 383).}, профессор уже наполовину спал, как спят или, лучше, лениво дремлют в раннем детстве, где-нибудь на даче, в четырехстопном ямбе — пока он еще не надоел».
Читать дальше