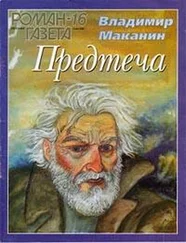Зотов еще по тайге, когда работали на бревнах, знал, что старый Степаныч насчет совести задет и зацеплен, однако нынешних размеров этой задетости и зацепленности он не знал. Ясность, впрочем, пришла скоро.
«…Ну и как: отошли, пьяные хари?» — Якушкин, спрашивая, поглаживал шрам.
«А ведь знаете небось, что и где пили, совесть, думаете, спит — но совесть не спит!» — времени не упускающий, Якушкин тут же и затевал с пьянчугами разговор, подогревая им липовый целебный настой. Якушкин подобрал их часов в семь вечера в глубоком зимнем снегу. Они проспали у него во флигельке четыре с лишним часа, лежа на дерюге рядышком, как серые шпалы, — двое мужчин. К ночи очухались.
Один был мрачный; незнакомому месту ничуть не удивившись, натянул шапку и смурно сказал: «Пока… Я извиняюсь», — и затопал к дверям, похрустывая слежавшимися ногами. Второй же попался на разговор. Покрутив и помяв шапку, этот как-то застеснялся уйти сразу, интеллигентней был, да и жажда мучила, а чайник уже посвистывал. Залепетал: мол, с женой нелады, бывает, мол. Найдя, что искал, Якушкин тут же и взвился: «Нелады, говоришь, с женой?.. А о любви к людям ты слышал когда-нибудь? Люди не мужья и не жены — люди братья и сестры, ты такое слышал?!» Голос вдруг (и для самого Якушкина — вдруг) загремел, как в былые времена его пика и взлета. Якушкин заговорил о страшных, как кара, болезнях, сурово (теперь уже с полным знанием дела) он набросал-нарисовал картинку, как они умирают — умирая. Пьянчужка был совершенно раздавлен, сидел, теребя и комкая за края шапчонку, как свою судьбу, согнет-разогнет. Встал. «Погоди!.. Пей!..» — ему сунули в руки чашку с настоем липы, и он покорно сел и покорно прихлебывал, опустив вниз поголубевшие глаза. Якушкин же, такого слушателя давно не заполучавший, загремел голосом вновь. Пьянчуга наконец ушел, подняв воротник и скорбно вжав голову в плечи. Шел меж домами и, отпущенный, оглядывался. Мела пурга.
В окошко, в щели, свистел ветер. Зотов, присутствовавший при разговоре, вздохнул: «Да, родной, не ожидал я. Зацепило тебя, будь здоров…» Зотов не стал есть, ни пить чай с липой, а все вздыхал, сочтя (про себя) Якушкина окончательно больным и жалея его.
Утомленный разговором и как бы счастливый, Якушкин лег спать, но Зотов все сидел при настольной лампе, куря одну за одной. Печалясь о Якушкине — печалился о себе. Глаза Зотова, неотрывные, уставились в полутемное окно флигелька, в пургу, в круговерть снега, глаза выискивали там ответ: надо же, что сделалось с человеком; неужели и меня когда-нибудь так скрутит?.. Среди ночи с раскладушки поднявшись, сентиментальный Зотов укрыл Якушкина потеплее и думал: «Не выберешься ты из этой ямы, родной, — не выберешься». Зотов нет-нет подходил к заснеженному окну — юркий и маленький человек, уже тоже стареющий. Он вспомнил мать, вспомнил детство и луга на той стороне Камы и, только когда босые ноги зазябли, с тяжким вздохом лег спать. Он чувствовал, что тоже подвержен теперь всяким таким разговорам о совести, — пугался, видя в этом наперед свою слабинку. Рано утром он собрал нехитрые вещички и ушел все равно куда, лишь бы не с говорливым Якушкиным.
К вечеру Зотов все же вернулся во флигелек — было негде жить, связи, которые надумал и на которые рассчитывал, не наладились. Зотов вновь томился и жил, обирая потихоньку пьянчуг. Скучал. Томясь, он злобно говорил Якушкину, что надо бы жить повеселее, — с кем ты только водишься, Степаныч!.. «Народец у тебя — тьфу! Женщины — заморыши, щепки худые, да еще с язвой от пьянства, а ведь женщину любить хочется». — «И такую любить можно», — бубнил Якушкин. «Можно-то можно, да ведь не хочется», — так они переговаривались ветреными, завывающими ночами, днем же Зотов ходил в кино.
Приближались, однако, те самые вечера и те ночи, когда зимний воздух прозрачен и когда манят, завораживая, горящие окна большого города. Зотов вскоре наметил, высмотрев в одной небольшой улочке и в одном из домов, старика-флейтиста, который в квартире своей одинокий доживал жизнь и которому только и надо будет дать в ухо. Бланк телеграммы был в руках — да не пугайтесь же, откройте; да ведь положено расписаться за телеграмму, не стану же я под дверь подсовывать. Зотов втиснулся, вошел, дал в ухо. Он не стал и смотреть, жив ли, — забрал деньги, кой-какое золотишко и отыскал камушки, должно быть, покойной жены. Теперь надо было найти (и скоро!) людишек для перепродажи, а Зотов людишек этих не искал: напала вдруг немота. Маленький юркий седеющий бандит не мог связать двух слов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу