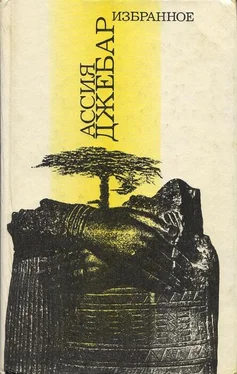— Там, — признается он, — мне улыбнулась днем хорошенькая Фатима!
Он крадется в дом, не постучав. Было это примерно в половине второго утра. Постояв в нерешительности в темноте, он чиркает спичкой и видит перед собой на полу целую группу сидящих кружком женщин, которые не спускают с него глаз; почти все они старые или кажутся таковыми. Тесно прижавшись друг к другу, они смотрят на него, и в глазах их отражаются удивление и ужас…
Француз достает из карманов распиханные как попало продукты и тут же поспешно раздает их. Он ходит взад — вперед, зажигает еще одну спичку; глаза его ищут и находят наконец «хорошенькую Фатиму», которая улыбнулась ему днем. Он быстро хватает ее за руку и поднимает.
Снова стало темно. Оба они направляются в глубь громадной комнаты, туда, где царит непроглядный мрак. Старухи не двинулись с места, поджав ноги, сидят они тесным кружком, молчаливые сестры с потемневшими вдруг глазами, прикованными к этому краткому мигу в таком неверном и зыбком настоящем: существует ли оно где-нибудь, счастье?..
Француз разделся. «Мне показалось, будто я у себя дома», — признается он потом. Он прижимает к себе дрожащую девушку, она в ответ обнимает его и начинает ласкать.
«Что, если какая-нибудь старуха подойдет и всадит мне нож в спину?» — думает он.
Но тут вдруг две хрупких руки обвивают его шею и слышится голос, который торопливо произносит сбивчивые, несвязные слова, такие непонятные и нежные слова, теплые слова, задушевные. Он впитывает их, эти слова, арабские или берберские, слова неведомого страстного языка.
«Она целовала меня прямо в губы. Представляешь! Я никогда такого не испытывал, никогда!.. Чтобы так вот вдруг! Она целовала меня! Понимаешь!.. Целовать меня! Зачем, за что? Это было безрассудно, глупо, и потому мне никогда этого не забыть!»
Бернар вернулся в лагерь около трех часов утра. Едва он успел задремать, как его уже будят: пора уходить из этой деревни, уходить навсегда.
Двадцать лет спустя я описываю вам эту сцену, вам, вдовам, чтобы вы тоже это увидели, чтобы вы тоже умолкли в задумчивости. И старые женщины, застыв неподвижно, слушают, как отдается неизвестная сельская девушка.
Молчание, будоражащее страстные ночи, и остылые слова, молчание «зрительниц», сопровождающее трепетные поцелуи в самом сердце разрушенного селения.
Пятый такт
Туника Несса [73] Несс — в греческой мифологии один из кентавров, известный своим коварством.
Отец в феске, стараясь держаться прямо, шагает по деревенской улице; он ведет меня за руку, и я, первая из всей семьи, кому покупали французских кукол, я, которой не было необходимости упираться при виде покрывала-савана или, наоборот, смиренно подставлять голову, подобно той или иной двоюродной сестре, я, которая, накинув на себя во время очередного свадебного торжества традиционное покрывало-высшая степень кокетства, воображала, будто надеваю карнавальные одежды, ибо мне окончательно и бесповоротно удалось избегнуть заточения, — я, девочка, испытывая чувство гордости, иду по улице, держась за руку отца. И вдруг мною овладевает неуверенность, меня начинают терзать сомнения: а может, мой «долг» заключается как раз в том, чтобы вместе со своими близкими остаться «сзади», в гинекее? [74] Гинекей (отгреч. gynaikeios-женский) — в Древней Греции женская половина в задней части дома.
И позже, уже в отроческие годы, чувствуя на своей коже, на всем своем подвижном теле пьянящий свет дня, я все еще мучилась тревожным вопросом: «Почему именно я? Почему из всего племени только мне выпала такая удача?»
Я как бы сосуществую с французским языком, и потому мое раздраженное брюзжание, мои страстные всплески, мое внезапное, исступленное молчание составляют часть обыденной семейной жизни. Если же я сознательно иду на громкую ссору, то не столько ради того, чтобы нарушить монотонное течение жизни, которое выводит меня из себя, сколько от смутного сознания чего-то непоправимого: не слишком ли рано вступила я в брак по принуждению, вроде с раннего детства «обещанных» и ставших невестами девочек моего города?
Отец, учитель, тот, кому уроки французского языка позволили вытащить семью из нужды, «отдал» меня, хотя я не достигла еще и отроческих лет, — не так ли поступают со своими дочерьми некоторые отцы, отдавая их неведомому суженому или, если взять мой случай, во вражеский стан? Подобное суждение, подкрепленное к тому же примером из нашей традиционной жизни, может показаться ошибочным; и в самом деле, в десять-одиннадцать лет не была ли я, по всеобщему признанию моей родни, «любимицей» отца, раз он без колебаний спас меня от заточения?
Читать дальше