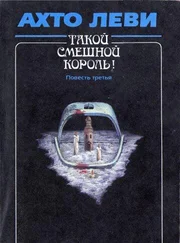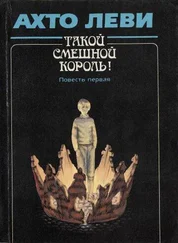* * *
По каким-то соображениям меня перевели в санитарную группу лагеря. Это очень хорошо. Члены этой группы пользуются кое-какими привилегиями, живут чисто, и, что главное, их не мучают маршировкой, не говоря уже о том, что они не роют окопы и траншеи. Зато их мучают другим: они должны безупречно вскидывать руку и орать: «Хайль Гитлер!» Это репетируется повседневно, потому что члены санитарной группы патрулируют в городе, где разгуливает всякое пузатое начальство.
Наши обязанности: дежурство в лагере, в городе и забота о том, чтобы не умереть с голоду. Санитарный патруль состоит из двух человек с металлическими складными носилками, на рукавах мы носим белые повязки с красным крестом. Дежурная смена работает по восемь часов. Иногда бывают уроки, учимся делать повязки, укладывать раненого на носилки и так далее. Когда выпадают городские дежурства, идем к бауэрам, проживающим вблизи города, и работаем за харчи. Пока нам нечего было бояться, Эгерь не бомбили, хотя вражеские самолеты, поднимая панику в лагере и городе, с утра до ночи летали высоко в небе. Эгерь не бомбили, потому что в нем не было ничего привлекательного для врагов, ведь аэродромы находятся за городом. Мы знали, что ни иваны, ни томми, ни янки нам ничего плохого не сделают.
Но однажды, когда я и мой напарник Риз шли в город на дежурство, завыли сирены. Самолеты, почти невидимые, ползли по небосклону. Было ясно, что они, как всегда, летят дальше на север – на Берлин. Вот уже их не видно, еще чуть-чуть слышны, вот и отбой. Люди вышли из убежищ и разошлись по домам. Мы тоже, волоча надоевшие носилки, поплелись на поиски развлечений.
Вдруг, непонятно как и откуда, снова появились самолеты. Даже не могу сказать, что появилось раньше: бомбы или самолеты. Не было тревоги. Внезапно взрывы, грохот, шум, крики обезумевших от страха, бегущих в панике людей. Одна старенькая женщина с целой оравой малышей бежала, таща их, орущих, за собой. Они спотыкались, не успевали за ней, и она была в отчаянии. Риз, мгновенно разобрав носилки, стал укладывать на них двух самых маленьких. Мы помогли семейству добраться до убежища, но войти в него было невозможно. У входа, давя друг друга, беспорядочно толкались сотни людей. Вокруг гремело и визжало; с опозданием завыли сирены, нагоняя жуть; горели дома, деревья и даже асфальт. Город был в дыму. Самолеты не были видны, бомбы сыпались словно дождь с неба. Когда наконец удалось войти в убежище, мы занесли детей, а сами поднялись обратно: ведь такое не увидишь каждый день! У входа стояли пожарники и полицейские, не выпуская никого, принимая опоздавших. Запыхавшись, пробежал сухопарый немец, офицер. Он был очень бледен и, мне показалось, дрожал. Заметив нас, он стремительно подскочил и, схватив меня за рукав, что-то объясняя, потащил за собой. Мы пустились бежать за ним по горящим улицам города. Иногда, когда слышался зловещий визг, бросались на землю и снова бежали. Повсюду валялись люди, и нельзя было понять, живые или мертвые.
Наконец забежали во двор полуразвалившегося дома. Прямо во дворе, на подстеленной шинели, увидели белокурую женщину. Лицо ее было в крови и измазано сажей, она тихо стонала. Положили ее осторожно на носилки и пошли обратно.
Страшен был этот путь. Кругом грохот, жарко от горящих домов. Мы, пригибаясь, двигались к убежищу. Осталась лишь одна улица и один поворот, когда на нас с грохотом повалилась стена. Я упал и тотчас услышал страшный крик. Поднявшись, увидел: Риз лежит на ногах у женщины. Оба были неподвижны – он мертв, она в обмороке. Возле, остолбенев, стоял немец. Здесь же валялась большая цементная глыба, убившая Риза, сломавшая ноги женщине. Освободив носилки от тела Риза, мы с немцем донесли его даму до убежища, где ее приняли врачи. Я остался в убежище до конца налета.
На другой день нас снова направили в город, на сей раз подбирать мертвых. Это была исключительно мерзкая работа. Трупы были страшные, порой на носилках несли лишь кучу рук и ног. Мертвых было, пожалуй, больше, чем раненых. Они были везде: в развалинах, в огородах, плавали в реке Эгере. Работали до вечера. Устаю очень, спать стал мертвым сном, тяжело. Да, теперь не до проказ – идет война.
Кормят нас лучше, но я этого почти не замечаю. Как-то, когда я обедал в столовой, ко мне подошел пожилой офицер и спросил, сколько мне лет. Он показался мне добрым, и я сказал правду. И угадал. Он покачал головой, вынул из кармана офицерские талоны на питание, протянул мне и, не оглянувшись, ушел.
Читать дальше