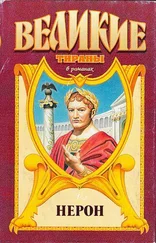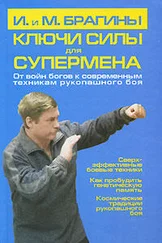Я и сам не знаю, как я сумел все это выговорить и при этом, кажется, не покраснел.
— Имя? Вам нужно имя? — начал он с тихим возмущением. — Что оно вам даст? Вам нужна суть дела? Но здесь нет никакого д е л а, а один голый авантюризм. Я больше скажу, и вы это примите к сведению: бесчестный и своекорыстный человек, можно сказать — жулик, хочет путем глупого шантажа и безответственного нахальства выманить у меня (или вырвать — такой на все способен!), вырвать то, чего у меня нет — средства для продолжения, я не побоюсь сказать, распутной и безнравственной жизни. Разве он может понять, что у меня д л я н е г о ничего нет! А то, что есть, это не для него. Да вы поймите, то, что у меня, это не денежные средства, это сила, и она не моя, я только хранитель. Она ничья. Она больше, она — вообще! Но разве это могут понять? Деньги! — им подавай деньги: бумажками или в другом выражении. Им все равно, лишь бы можно было обменять на удовольствия. Вот чем они живут. Разве думают они, что после них останется. Да что говорить. Вы спрашиваете имя! Я вам его назову: имя это — порок!
Окончил он на патетической ноте. Я понял, что не только ничего существенного мне от него не добиться, но и приблизительного тоже. Понял я еще и то, что мне все равно придется прийти и посидеть за занавеской. Ну что ж — можно и посидеть. В конце концов, что же здесь будет! Не просто же шутка такое послание!
Больше я спрашивать ничего не хотел: выслушивать нравоучительные сентенции и переключаться всякий раз на смены его настроений, а я теперь окончательно убедился, что старик «не в себе», мне порядком надоело. Да и времени, кажется, уже прошло предостаточно.
— Хорошо, — сказал я. — Когда?..
— Будьте завтра к семи. Он придет в восемь. Но вам еще человека нужно поставить, не забудьте. Но только я прошу вас — ничего ему определенного не сообщать — придумайте что-нибудь.
Это было нетрудно, я и сам «ничего определенного» не знал. Здесь я сразу подумал о первом моем здесь знакомом — Коробкине, это ему, кажется, должно было подойти.
— Хорошо, я буду, — проговорил я и встал.
— Стойте! — отрывисто, но глухо воскликнул он с кровати; я остановился.
Он осторожно спустил ноги на пол, пошарил тапочки, с усилием, опершись руками, встал и медленно (но не шаркая) прошел к окну. Оттуда он оглянулся на меня, потом, просунув палец меж занавесок, заглянул наружу. Еще раз оглянулся на меня и пошел к двери. Здесь он проделал все то, что и при моем появлении: то есть — сначала долго прислушивался, призывая меня к тишине поднятием руки, потом взялся за ключ и провернул его; прислушался опять, медленно приоткрыл дверь, но снова на ту же ширину; мне пришлось протискиваться.
— Не благодарю вас, — прошептал он быстро, — потому что вы послужите не мне, а делу. Большому, — добавил он, и дверь закрылась.
Оставшись один, я поймал себя на том, что, прежде чем двинуться, я огляделся по сторонам.
Внизу я спросил о времени — было уже двадцать минут шестого. И я почти побежал к главному корпусу, с разбегу взлетел на ступени крыльца и — вдруг остановился. Сам не знаю почему: стоял, словно из меня разом выпустили весь воздух.
Я не Никонов и резкой смены настроений за собой как будто не замечал (но, может, и не знал, что это нужно было замечать), здесь было не то, и не в настроениях было дело. Нет, что-то другое.
Похоже, как если бы заблудился где-нибудь в снежной равнине. И все шел бы, шел, чтобы выйти куда-то (неизвестно куда, но чтобы выйти), зубы стиснув, шел, ничего перед собой не замечая — только бы идти, только бы ни на мгновение не остановиться. И силы бы еще были, и желание отчаянное, но вдруг — встанешь, как вкопанный, и сам не понимаешь, почему стоишь и почему дальше идти не можешь. И одна только мысль — вязкая, валкая, — что все напрасно. И не головная, не от разума (разумно бы подумать, что совсем не напрасно, что одно только спасение и есть — двигаться). Но ты почему-то садишься на снег и равнодушно смотришь на какой-нибудь стебелек прошлогодней травы, неизвестно почему вылезший из снега — так смотришь, так к нему наклоняешься, словно самое главное в эти минуты понять: что это? почему это тут? Ни близкая смерть, ни возможное жилье поблизости — ничего не занимает. А вьюга прижимает травинку — она клонится, выпрямляется, клонится опять — а ты смотришь, не замечая уже ни холода, ни вьюги, ни ног своих, ни рук, ни всего себя — равнодушный, бессмысленный и — спокойный. Этот вот равнодушный покой, может быть, самый и сладкий.
Читать дальше