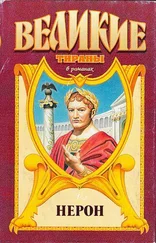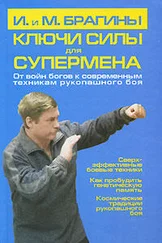— Я же вас не просил, — быстро подняв на него глаза, но тут же опять отведя взгляд в сторону, сказал я. — Я же вас не просил… советы… И если вы не хотите, то и…
— Ну вот и обиделись, — перебил он меня, с удовлетворением, однако, в тоне. — Ну, не буду, будьте покойны. Что же касается вашего вопроса, то скажу: да, уверен, что она уедет с ним, — и помолчав, добавил: — И пока на улице серо, будет знать, что это самое и есть ее… так сказать. Впрочем, только до первого снега.
Произнеся это последнее, о снеге, он снял шляпу и повертел ее в руках, как бы рассматривая, потом осторожно провел пальцем по блестевшей атласной ленточке.
— Так что, так что… — проговорил он и надел шляпу, перед тем еще зачем-то посмотрев ее на свет. — Между прочим, — сказал он, теперь принявшись рассматривать свои руки, — эта ваша знакомая, которая вооружена, должен вас предупредить, очень рискует. То есть, когда начнется разбирательство (а оно непременно начнется) после… после старика. Пистолет-то ее с дыркой сбоку ствола, это понятно — железка, но знаете, одним размахиванием можно такого страху напустить, что человек, а особенно при чувствительном сердце и ослабленном организме, может того… А когда начнут разбираться, то ее, с оружием, так сказать, перед строем выведут, а уж нас, что с языками, все-таки на второй план. Оно может быть, что всякие языки злые и посильнее, в определенном смысле и если в некоторых обстоятельствах, пистолетов. Но, в свете закона, огнестрельное оружие потяжелее потянет.
— Это вы, дядя, к чему? — сказал Коробкин.
— А ни к чему, — отозвался Думчев. — Только ведь не я один, кажется, пистолета испугался. Дело естественное, оттого и вспоминаю. Ну ладно, — он оперся руками о колени, как бы собираясь подняться, но не поднялся, а только выразительно нагнул корпус вперед, — кажется, всем пора. Время хотя и не догонишь, но и прохлаждаться нечего, а потому…
Он опять отнял руки от колен и опять упер их в колени, но снова только нагнулся вперед. Я поднялся.
— Мы пойдем, — сказал я. — А вы…
— Я здесь, — быстро проговорил Думчев. — Так сказать, в тиши и без единой мысли. Отдохну. А вы, как могу понять, соседа своего идете разыскивать, уважаемого мной Алексея Михайловича? Самое время, самое время. А он ведь вчера вас ждал. Поздно вернулся и в известном настроении. Но ждал.
— В каком это — «известном»?
— Да так. Впрочем, сами увидите.
Я не стал расспрашивать. Я повернулся к Коробкину, он утвердительно кивнул, и мы, не прощаясь (что вышло как-то само собой), стали подниматься по склону. Я сказал себе, что не обернусь, но все же не выдержал и обернулся.
— Хотел вам дать совет, — прокричал Думчев снизу. — Не подходите к старику, ему теперь никто не нужен. И помочь ему никто не может уже. Ему самому подготовиться надлежит.
— А? — сказал я, но так тихо (скорее, это просто невольно вырвалось у меня), что Думчев, конечно же, не мог расслышать.
Но то ли он понял «а?» по движению губ, хотя было и далеко, то ли сам догадался, только он повторил еще громче:
— Самому — слышите! — самому подготовиться надлежит.
Шли мы молча. Коробкин только сначала, у выхода на дорогу, попытался было делиться впечатлениями, но я его почти грубо оборвал; впрочем, он тут же и замолчал послушно, и больше со мной не заговаривал. Шли довольно быстро, что называется, поспешали, хотя я еще и не знал, куда тороплюсь; спешил же, скорее всего, оттого, чтобы скорее отдалиться от места разговора, от Думчева. Я шел, и мне не хотелось ни о чем думать. Лучшее средство, казалось бы, заговорить… Но говорить о пустяках было как-то не ко времени, а разговаривать о важном я с Коробкиным не хотел. «И не умею я с Коробкиным…» — сказал я себе, но не договорил, подумав так: «С кем же я умею говорить о важном? И что это за важное такое, что о нем еще нужно уметь говорить!» Здесь, позлившись на самого себя, я и в самом деле стал думать: что же это такое есть — «важное»? Что же это — то, что важно лично для меня, или то, что важно вообще… для человеческой жизни? Ну вот, мы как будто и говорили с Думчевым о важном, но ведь только он упомянул о Марте (вскользь и даже не назвав имени), как мне неинтересно и не важно стало все важное, и все сразу отошло в сторону, как только я вспомнил Марту. Значит ли это, что большие вопросы жизни важны только тогда, когда я свободен от личного, то есть когда от личного образуется пустота? Или их (вопросы личного и общего) не нужно сравнивать, а нужно их разложить по неким отделам души на второстепенные и первостепенные и нужно их разделить по временам (то есть чтобы было всему свое время и одно другое бы не перебивало)? Или нужно научиться их совмещать? Но как их совместишь? — Как только личное страдание коснется тебя, тут же переводить его в страдания всего человечества? А когда твои страдания минут, то думать, что и все человечество уже находится в том же, как и ты, благостном состоянии? Но ведь не находится?!
Читать дальше