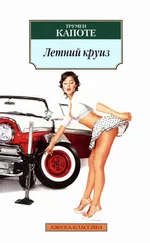По виду миссис Фергюсон была не настолько умна, чтобы творить чудеса. И даже показывать карточные фокусы. Это была некрасивая женщина лет сорока, а может, и тридцати: по ее круглому ирландскому лицу, почти без морщин, и по круглым лунообразным глазам, почти лишенным выражения, определить это было трудно. Она была прачкой — вероятно, единственной белой прачкой в Новом Орлеане и мастером своего дела: важные городские дамы вызывали ее, когда во внимании нуждались их самые тонкие кружева, шелка и полотна. Вызывали ее и за другой надобностью — добиться желаемого: нового любовника, определенного мужа для дочери, смерти мужней любовницы, дополнительного пункта в материнском завещании, приглашения быть королевой Комуса [17] Комус — заключительный бал Масленицы в Новом Орлеане.
— самой пышной части масленичных гуляний. Так что услуг ее искали, и не только прачечных. Основой ее успеха и главным источником доходов была предполагаемая способность просеивать пески грез и извлекать из них серьезное вещество — золотые реалии.
Теперь насчет этого моего желания, озабоченности, донимавшей меня с раннего утра и до позднего вечера: я не мог попросить о нем вот так, с ходу. Требовался подходящий момент, тщательно подготовленный. Она к нам редко приходила, но когда приходила, я вертелся рядом, притворяясь, будто наблюдаю за деликатными движениями ее толстых некрасивых пальцев, перебирающих кружевные салфетки, но на самом деле стараясь попасться ей на глаза. Мы никогда не разговаривали: я был слишком робок, а она слишком глупа. Да, глупа. Я это чувствовал; может быть, и сильная колдунья, миссис Фергюсон была глупой женщиной. Но время от времени мы встречались взглядами, и, при всей ее тупости, напряжение, завороженность, которые она видела в моих глазах, говорили ей, что я хочу быть ее клиентом. Она, вероятно, думала, что мне нужен велосипед или новое духовое ружье; во всяком случае, заниматься такой мелюзгой она не собиралась. Что я мог ей дать? В общем, она опускала уголки своих тонких губ и отводила свои полнолуния в сторону.
В это время, в начале декабря 1932 года, в гости ненадолго приехала моя бабушка по отцу. Зимы в Новом Орлеане промозглые; сырой холодный ветер с реки пробирает до костей. Поэтому бабушка, работавшая учительницей во Флориде, предусмотрительно захватила с собой одолженное у подруги меховое пальто. Оно было из черного каракуля — одежда богатой дамы, каковой моя бабушка не была. Рано овдовев, она сама растила трех сыновей; жизнь ей досталась нелегкая, но она никогда не жаловалась. Она была чудесная женщина, с живым и при этом трезвым умом. Из-за семейных обстоятельств мы редко виделись, но она часто писала и присылала мне подарочки. Она меня любила, и я хотел ее любить, но пока она была жива — а умерла она на десятом десятке, — я держал дистанцию, вел себя равнодушно. Она это чувствовала, но так и не узнала причину моей видимой холодности — ее никто не узнал, потому что причина была частью сложной вины, многогранной, как ослепительный желтый камень на тонкой золотой цепочке, который часто носила бабушка. Жемчуга пошли бы ей больше, но она почему-то очень ценила эту несколько театральную безделушку, выигранную, насколько я знал, ее дедом в карты где-то в Колорадо.
Ценности ожерелье, конечно, не представляло; всякому, кто интересовался, бабушка добросовестно объясняла, что камень, который был размером с кошачью лапку, не самоцвет, не желтый сердолик и даже не топаз, а просто горный хрусталь, умело ограненный и окрашенный в темно-желтый цвет. Но миссис Фергюсон не догадывалась об истинной цене ожерелья, и однажды, во время пребывания бабушки, придя к нам, чтобы накрахмалить белье, толстенькая моложавая ведьма была буквально зачарована блестящей стекляшкой на золотой цепочке. Ее невежественные лунные глаза загорелись — это правда, они действительно загорелись. Теперь мне нетрудно было привлечь ее внимание; она разглядывала меня с интересом, прежде отсутствовавшим.
Она стала уходить, и я проследовал за ней в сад, где была вековая аллея глициний — место, таинственное даже зимой, когда зелень скукоживалась и лиственный туннель лишался укромной тени. Она остановилась там, поманила меня и тихо спросила:
— Ты что-то надумал?
— Да.
— Чего-то надо? Одолжения?
Я кивнул; она кивнула, но глаза ее беспокойно бегали — не хотела, чтобы ее застали за разговором со мной.
Она прошептала:
— Сын придет. Он тебе скажет.
Читать дальше