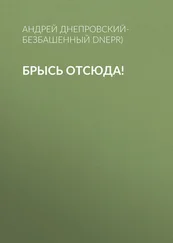Это было эпиграфом, или лучше сказать, эпитафией ее жизни, но по молодости ей показалось, что она без труда все устроит по-своему — навсегда, до березки… И огромным усилием воли повернув себя набок, подтянула колени под самый живот, оттолкнулась от пола руками и все-таки села. И спиной привалилась к стене, и увидела с невероятной отчетливостью, как, наверное, можно увидеть лишь перед смертью, — нет, неправда, перед смертью всегда вспоминается самое раннее детство — а она же увидела год пятьдесят, приблизительно, пятый: переполненная электричка из Голицыно, куда Сонины ясельки выезжали на лето; они с Йосей в проходе, в обнимку, впритирку, эта близость не тел, а костей уже, как в могиле, ужасает и тем еще, что незаполненным оказалось теперь почти целое воскресенье, — к детям их не пустили, сказали, ветрянка, территория на карантине, а уборщица проговорилась, что двух мальчиков увезли с подозрением на менингит, — его пот пахнет жженными спичками и глицерином, его плоть, дай ей волю, еще миг и пронзит ей живот, и она говорит, чтоб его ужаснуть, чтоб его осадить: «Я повешусь, если с Сонечкой что-то случится!» — а он языком, как собака, проводит по ее переносице, а потом над губой, собирая в себя ее капельки пота, и, должно быть, от этого его голос теряет упругость и течет, словно лава, прямо ей в ухо: «Только ты! Даже Сонька — моя звездочка — это другое!» — «Мне же жарко!» — «А ты — это солнце! И вся жизнь от тебя!» — «Хоть на чуточку отодвинься!» — «Моя Вера и жизнь!»
Он душил ее этой любовью столько лет, и чем чаще она говорила ему: отодвинься, — тем сильнее душил.
И когда появилась та женщина как знакомая Вани Лещева на каком-то из Йосиных дней рождений, очевидно, на сорокалетии, — потому что народу собралось — у соседей одалживали столы, — некрасивая, длинноносая и костлявая, с вызывающе модным начесом волос, в общем, Ване с его обожженным лицом даже очень под стать, — ничего же решительно не предвещало!.. Унитаз в этот день, как назло, засорился, — дом уже одряхлел и, как старый курильщик мокротой, все чаще и чаще давился дерьмом — и Иосиф с фонариком целый вечер по двое, по трое провожал гостей до уборной на заднем дворе… А потом они все приносили на обуви хлорку, и коврик в прихожей еще долгое время вонял. С этой женщиной, с Аллой, Иосиф ушел почему-то вдвоем, и пропал в непроглядных октябрьских потемках, и спустя чуть не сорок минут возвратился со счастливым, разгоряченным лицом. Ваня был уже пьян, он лишь весело рявкнул: «А привет от красотки-параши?! Не слышу!», растревожив своим трубным басом фужеры из чешского хрусталя, уже собранные на подносе, и вот этот-то перезвон и привел всех в волнение, поднялся страшный ор, все хотели, чтобы фужеры непременно звенели и от их голосов… И тогда эта женщина, Алла, чуть не по головам, пробирается к фортепьяно, безошибочно и беспардонно берет несколько громких аккордов, воцаряется тишина, а она все колотит по клавиатуре, и хрусталь наконец отвечает на эту ее канонаду. Все в восторге, и, кажется, только лишь Вера замечает, как хищно стучали по клавишам ее длинные ногти и как много зубов в этом маленьком ротике, расползающемся в победной улыбке. А когда эта женщина вдруг решает еще и попеть, Вера ставит пластинку и велит отодвинуть столы, и танцует с Иосифом их классический номер — слоу-фокс, танец с множеством выпадов, требующих от партнеров безукоризненной слаженности движений, и все смотрят опять на нее, на красавицу в пышной, присборенной юбке с нарочито широким, зауженным поясом, потому что Иосиф следит за фасонами ее платьев уже без прежнего рвения, ему нравится обладать красотой, на которую жадно засматриваются другие, — а они только это и делают. И от этого снова так хорошо и так весело, так уверенно и беззаботно, что унылая, худосочная женщина, приобнявшая пьяного Ваню на стуле в углу, исчезает из вида, а потом и из памяти навсегда… А спустя девять лет вдруг приходит и говорит: «Вера… Вера Викентьевна, вы должны меня тоже понять!»
И почувствовав, как в ноге снова теплится жизнь и каким лютым холодом тянет от пола, ей не сразу, но удается скинуть туфлю и каблуком, уже плачущим по набойке, постучаться в окно — он, конечно, услышит, если он сейчас в спальне: преспокойно лежит себе там и читает — только вот не разбить бы стекло! — этот грохот нельзя не расслышать. Ее отчим сапожником не был — для чего она вспомнила этого человека? этак можно добраться до самого-самого раннего детства и не встать! — отчим был недомерком с короткими пухлыми ручками, всю войну их в Тобольске кормившими, он сапожничал, плотничал, ремонтировал электрические приборы, часы, репродукторы, а вообще он работал на оборонном заводе и стоял за токарным станком, как какой-нибудь школьник, на ящике, все соседи его называли Кургузым, а она про себя, как московского клоуна, — Карандашом.
Читать дальше