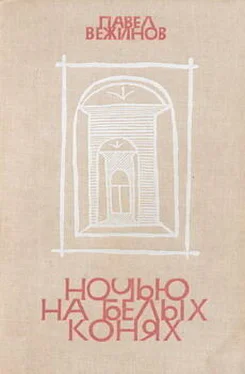Сашо попытался ободряюще улыбнуться, но вместо улыбки получилась какая-то жалкая гримаса. Хотел что-нибудь сказать, но слова застряли в горле. Он понимал, что сейчас любое слово прозвучит фальшиво. Она и сама сейчас не настоящая, просто какой-то до смерти перепуганный раненый зверек. Да, как тот котенок, которого он когда-то сбросил с балкона и потом нашел под дверью — несчастного, охваченного ужасом котенка, у которого не было никакого другого выхода, кроме как опять вернуться к своему убийце и показать ему свою сломанную лапку, чтобы вызвать хоть каплю сострадания.
Он молча подошел к кровати и присел на низкую белую табуретку. Потом взял ее обескровленную руку в свою. Холодная, худенькая ручка с истончившимися пальцами. Он гладил их другой рукой, чувствуя, как дрожат у него губы. Казалось, никогда еще в душе у него не боролось так много и таких разных чувств, он просто задыхался сейчас под их напором. И все же перед ними словно стояла какая-то преграда, какая-то плотина из мокрых, позеленевших камней. Он сам воздвиг ее в себе, чтобы уберечься от отвратительного чувства вины, — воздвиг еще тогда, когда трусливо прятался от Сузи. И эта преграда так и осталась в нем, хотя и скрытая под корнями и желтой тиной, нанесенной течением. Сейчас сквозь преграду пробивалось немного чистой воды — не больше.
— Я думала, ты не приедешь, мышонок, — еле слышно проговорила Криста. — Что тебе что-нибудь помешает.
— Как это я мог не приехать? — удивился Сашо.
Она поняла. Она взяла его руку и приложила к своей холодной щеке. Потом поцеловала эту сильную мужскую ладонь и заплакала, счастливая и успокоенная. Она плакала и все прижимала к щеке его руку, обливая ее горячими слезами. Он молчал, растроганный, где-то в глубине души уже сознавая, что эти слезы — безмолвный, вынесенный ему приговор. Окончательный приговор. Наверняка справедливый и предопределенный заранее. Быть может, прекрасный и даже приятный приговор, против которого не было никакого желания протестовать. И все же — приговор.
Все произошло так быстро, что Урумов не успел ничего осознать. Он с трудом сохранял спокойствие, пока Сашо объяснял ему, как разыгрываются этюды. Затем племянник умчался, оставив после себя что-то, напоминающее напряжение перед сильной грозой. Как всегда, когда он был чем-нибудь смущен или расстроен, академик подошел к окну. Солнце уже низко склонилось к западу, на неровной спине Витоши еле заметно поблескивали окна горных приютов. Сейчас его занимала одна-единственная мысль — какие последствия таит в себе это неожиданное событие.
Случилось что-то очень важное, ребенка больше не было. В любом случае это означало конец чего-то. Или начало чего-то, может быть, совершенно непредвиденного. Но что бы это ни было, он чувствовал, что еще не готов его принять.
А вчерашний день был таким счастливым и спокойным. Он просто видел, как Мария подходит к нему с грибами в руках, страшно гордая и счастливая своей находкой. Потом они сидели в редкой тени калинового куста, осыпавшего крутой берег мертвыми белыми цветами. Видел все как на ладони — заводь, молодые тополя, квадраты рыбопитомника у другого берега. Какой прекрасный, бесконечный, разомлевший от жары день. Казалось, он так и остался сидеть там, на берегу, и вода, пришедшая с гор, омывает его запыленные, усталые ноги. Так и хотелось задремать, уснуть навсегда под журчанье реки. Остаться неизменным в вечности. Конечно, тогда у калины никогда не созреют ее мелкие ягоды, не нальются алые грозди. Но зато день, его день останется бесконечным. Не будет никакого заката, никакого завтра. Он боялся каждого нового дня, каждого шага в неведомое. Любая перемена казалась ему ужасной.
Зазвенел телефон, он вздрогнул и вышел в холл. Академик возненавидел эту черную трубку, сделанную так, чтобы держать ее было как можно удобней и легче. Почему это люди так по-глупому стремятся обставить как можно удобней каждую плохую весть, каждое несчастье, даже каждую смерть — электрический стул, роскошные подземные убежища. Все равно — дурная весть не станет от этого лучше, смерть — милосерднее. В мембране загудел хрипловатый мужской голос, и академик облегченно перевел дух.
— Профессор, это я, Трифон. Звоню из автомата.
Трифон был его старый, ушедший на пенсию шофер. Сейчас он приехал за ним на институтской машине.
— Хорошо, Трифон, но не рановато ли ты явился?
— Раньше — вернее… Газетку пока почитаю…
Читать дальше