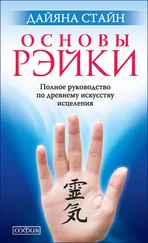Внесли баранину, разлили по бокалам пиво и аквавит, и, постучав ножом по хрустальному бокалу, отец попросил слова и произнес короткую приветственную речь: «Добро пожаловать в наш новый дом на Островной улице»… Потом он рассказал, как мы с приятелями пошли на гору Эй-юрд покататься на санках возле расселины Шнитлер, а там ведь опаснейший склон, и санки мои врезались прямо в дерево, я сломал два ребра, разбил губы и повредил зубы. И Рождество, начавшееся ложью, все-таки завершилось правдой.
Мы подняли бокалы.
Не знаю, помнишь ли ты, как впервые попробовал спиртное, как жидкость застыла на языке и обожгла тело, и оно словно бы узнало это неизвестное вещество, как если бы ждало его, и ты тоже опознал в нем распад с первой попробованной капли, с первого глотка алкоголя. Мы подняли бокалы. В тот вечер мне впервые разрешили выпить спиртное — небольшой стакан пива, возможно жалея меня, жевать мне было сложно, голова болела, рот разбит, я уже принял обезболивающее и вот теперь пиво, и еще я украдкой глотнул крепчайшего аквавита, самогона, он прилип к языку и опалил внутренности приятным жаром, тело погрузилось в тепло и покой, они проступили изнутри, всё встало на свои места, словно нашлась недостающая деталь и то, что было в разбалансе, пришло в равновесие. Меня свербило нетерпение, я не мог дожидаться, пока гости разойдутся, а родители улягутся, мне надо было прямо сейчас пробраться на кухню и попробовать коньяк, и виски, и портвейн, купленный к десерту и пирожным и на вечер после ухода гостей: отец любил, проводив всех, посидеть в одиночестве, вернее — наедине с бутылкой, я знал, что он любит выпить, но не знал, что унаследовал от него это пристрастие.
Глотнув водки, я вернулся за стол, жизнь улучшилась; снег словно льняной простыней укутал дом и террасу, белым покровом защитил нас, сидящих в гостиной; было тепло, в гостиной топился камин; швы на лбу стянуты пластырем, грудь перевязана, я был спеленут алкоголем и хлопком. Снег и платья — мамино и обеих бабушек, красная, черная и синяя ткань, шуршащая, пропахшая духами и сигаретами. Я мечтал, что мне подарят боксерские перчатки. А получил новую пижаму. Две книги и зимние ботинки. А еще белую рубашку, шапку-ушанку, да не важно, что мне подарили, теперь я мечтал лишь о том, чтобы гости ушли. Я хотел остаться наедине с отцом. Поговорить с ним, посидеть, выпить, я и забыл, что время пока не пришло, что я еще не дорос до этого ритуала, и такая привычка приживется позднее, мы будем сидеть в нижней гостиной и вспоминать былое — маму, бабушек и дедушек, всех их тогда уже не будет. В то первое наше Рождество на Островной мы с отцом хотели, чтобы они, все эти родственники, побыстрее ушли и мы бы с ним остались наедине, лишь он и я, а сейчас, когда никого из них нет, нам так хочется, чтобы они были с нами, чтобы они никогда не покидали нас.
На маме было красное платье с серебряным поясом, темный парик с начесом, крупные золотые серьги-кольца и светлое ожерелье, оттенявшее смуглую кожу. Она любила загорать под горным солнцем. Порой мама становилась блондинкой, а порой — рыжеволосой, иногда ее волосы бывали каштановыми, но в тот вечер, в Рождество, она стала брюнеткой с высокой прической. На ней были туфли на высоком каблуке, и она казалась выше чем обычно. Мы водили хоровод вокруг елки, и мама держала меня за руку. Внезапно я потянулся и поцеловал ее обнаженное плечо. «Томас! — прошептала она, оглядев меня, — о господи, да ты только посмотри на себя! От тебя несет спиртным, ты кончишь как твой отец!» В тот момент мы пели рождественские псалмы, и я взглянул на отца, который держал за руку свою мать, — да, пожалуй я похож на него. Я хотел было поцеловать маме руку, но она отдернула ее. «Я серьезно поговорю с твоим отцом», — сказала она. Я знал, о чем она собирается говорить. Я знал, как именно она будет с ним разговаривать. Она встанет перед ним совсем как встает передо мной, поднимется на цыпочки, словно готовясь к нападению, и звенящим голосом примется швырять в него слова. «Мальчик напился! А на Рождество он попросил боксерские перчатки. Он превращается в тебя!» — вот как она скажет и, возможно, расплачется, он станет нервничать и, наверное, спросит: «Ты не любишь меня?» Я не знал, что отец скажет ей, но именно этот вопрос скрывался за всеми остальными. «Неужели она нас не любит?» За нашей любовью к ней пряталось отчаяние: почему ей так неймется переделать нас?
Отец и я — мы любили ее, каждый по-своему, а может, мы любили ее одинаково, с тем же отчаянием, с той же неуверенностью: кем она хочет, чтобы мы стали? И почему ей так важно изменить нас? Мой отец все делал ради нее, делал все, чего, по его мнению, мама от него ждала, из кожи лез. Он исполнял все ее указания, — но хочет-то она чего? Откуда эти строптивость и недовольство? Кем бы она хотела себя видеть? Отец и я — мы никогда не понимали ее. Мы любили, но так и не поняли ее. И она тоже любила нас, но не понимала, в нашей семье образовалась брешь, пробоина, зазор. Может, зазор этот равен расстоянию от Рыночной улицы до улицы Микаэля Крона? Может, расстояние между двумя домами виновато в том, что через нашу маленькую семью прошла трещина, мы с отцом оказались по одну сторону щелины, а мама — по другую? И дистанция между Рыночной площадью и улицей Микаэля Крона переселилась в наш новый дом на Островной, словно, переезжая, мы захватили с собой и этот раскол, разлом, и он передался новому дому, а потом и мне, и я перестал понимать, где мое место, мой круг и кто я.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/176315/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz-thumb.webp)