Подошел и минул полдень (утро яко трава мимоидет, утро процветет и прейдет: на вечер отпадет, ожестеет и изсхнет), бронзовое солнце катит к закату, его преподобия Эппса все нет, а я уже и проголодался. Тут я вспомнил (за переживаниями совсем запамятовал), что меня ждет обед, забросил на плечо свой узелок и пошел пустыми, разоренными коридорами на кухню. На полке над огромной кирпичной плитой нашел последнюю еду, которую доведется съесть здесь последнему из Тернеров: четыре куска жареной курятины, половинка хлеба, сладкий сидр в треснувшем кувшине — хорошая господская еда, вполне приличествующая для прощальной трапезы; от мух все прикрыто чистым старым мучным мешком. То, что мне с совершенной ясностью вспоминаются такие подробности, может быть, связано с охватившим меня тогда ощущением близкой опасности, паучьего копошения, оплетающего тревогой и беспокойством, которые, как тени виноградных лоз, наползающие по каменной стене в лучах заходящего солнца, нет-нет да и пробегали мурашками по позвоночнику, пока я сидел в пустой кухне на подоконнике и ел курятину с хлебом. Тишина на плантации была в тот момент почти полной, да такой еще странной, такой гнетущей, что на секунду вдруг подумалось, уж не оглох ли я, я даже вздрогнул от испуга. На время я перестал жевать и навострил уши, пытаясь уловить хоть какой-нибудь звук извне — крик вороны, всплеск утки в заводском пруду, шум ветра в лесу — что угодно, лишь бы увериться, что я не лишился слуха, но я не слышал ничего, вовсе ничего, и чуть совсем не потерял голову от страха, но тут оглушительно шаркнула по сосновому дощатому полу моя собственная огрубелая босая ступня, и это привело меня в чувство: я попенял себе за глупость и продолжил обед, окончательно успокоившись, когда какая-то дурацкая муха с оглушительным брюзжаньем уселась мне на верхний свод ушной раковины.
Но ощущение угрозы, таящейся в тиши и уединении, не покидало меня, не ослабевало, прилипло, как тесная рубаха, которую, как ни старайся, не скинуть с плеч. Куриные кости я бросил в заросшую сорняками цветочную клумбу под кухонным окном, остатки хлеба тщательно завернул и сунул в узелок вместе с треснутым кувшином — чего доброго, могут еще понадобиться — и вышел в главную залу здания. Лишенное всего, что можно унести — хрустальной люстры и напольных часов, ковров и клавесина, шкафов и кресел, — стоило мне вдруг чихнуть, просторное помещение отозвалось замогильным гулом. Эхо отдавалось от стены к стене, ревело водопадом, ухало обвалом, потом утихло. Лишь высоченное, усиженное с исподу паучками разрывов амальгамы, посиневшее от старости зеркало, навечно вделанное в стену меж двух колонн, наверняка доказывало, что здесь раньше жили; его мутноватые переливчатые глубины отражали дальнюю стену, на которой четырьмя безупречными прямоугольниками выделялись места, откуда исчезли портреты Тернеровых предков — двух строгих джентльменов в белых париках и треуголках и двух задумчивых леди в закрытых платьях, украшенных лентами и оборками розового шелка; имен они для меня не имели, но с годами стали близкими и чуть ли не родными, от их отсутствия я, сам того не ожидая, внутренне содрогнулся, будто вдруг умерло сразу несколько человек.
Я снова вышел на веранду, может, теперь дождусь — раздастся стук копыт, скрип колес, но нет, опять тишина. Тогда я почувствовал, что остался один — брошен, забыт, и никто не приедет, не заберет меня; это ощущение пугало, вызывало всяческие предчувствия, однако не все они были неприятны: что-то внутри вздрагивало и странно, сладостно трепетало. Такого со мной никогда еще не было, и я попытался заглушить это в себе, положил узелок на ступени веранды и поднялся на выступающий невдалеке пригорок, откуда, почти не сходя с места, можно было окинуть взглядом панораму брошенных хижин, покосившихся мастерских и сараев, и запустелые угодья — все царство, опустошенное Гедеоновым войском. Жара стала совсем несносной и безжалостной; грязное, мутное небо давило и жгло, а солнце в нем дрожало, будто красный дымящийся уголь. Сколько охватывал глаз, вплоть до нижнего кукурузного поля доходили ряды негритянских хижин; между ними теперь поднялись настоящие джунгли подсолнухов и бурьяна да непролазные колючие дебри. Чувство возбуждения, гнездящееся прямо в кишках, теплое и какое-то постыдное, как я ни старался, все равно вернулось, когда я осматривался, сперва задержав взгляд на рядах пустых хижин, а затем вновь оглядывая ближние мастерские и сараи, конюшни и навесы, и, наконец, огромный господский дом, теперь пустой и молчаливый на жуткой жаре.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
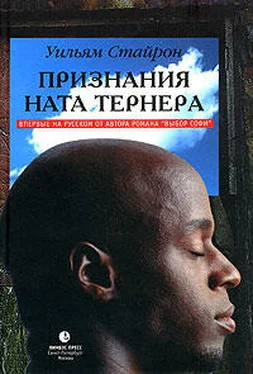




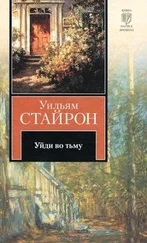




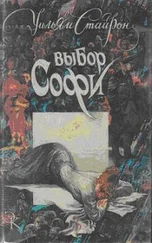
![Уильям Стайрон - Выбор Софи [litres]](/books/403897/uilyam-stajron-vybor-sofi-litres-thumb.webp)