Я забирался в приземистый и тесный складской сарайчик, куда из плотницкой мастерской вела дверь, которую я мог запирать при помощи гвоздя и веревки. И всегда я видел себя с безымянной белой девушкой — как я раздвигаю ей коленки, а она такая юная, и золотистые кудри так и вьются... В сарайчике стоял пряный дух свежих стружек, пахло смолою ладанной сосны, да так остро и едко, что в носу чесалось; частенько, уже совсем в другие времена, проходя в жаркий полдень мимо рощицы таких сосен, я улавливал тот же самый пикантный и пьянящий аромат свежеспиленной древесины, и мои чувства сразу пробуждались, я ощущал внезапный прилив желания, шевеление в чреслах, да и сейчас, стоит подумать о плотницкой мастерской, как оживают до боли яркие воспоминания, сливая воедино страсть и нежность, — вот воображаемая златокудрая дева, она что-то шепчет, приоткрывая сладостные уста, а вот я сам, такой юный, как много лет назад, задышливо дергаюсь, сидя на корточках среди благовонных сосновых ароматов.
Подозреваю, что именно одиночество вкупе с тем, что у меня имелось вдоволь свободного времени, коего лишены другие рабы, много споспешествовало тому, что я рьяно бросился штудировать Библию, на каковом поприще и достиг — уже тогда, в столь нежном возрасте — благоговейного понимания царственного величия Псалмов и чарующей неотразимости поучений Пророков, и тогда я твердо решил: во что бы то ни стало, какими бы низкими и затрапезными трудами ни обременила меня в будущем судьба, перво-наперво я должен стать проповедником Слова Божия. Однажды на Рождество мисс Нель подарила мне Библию — одну из тех, что оставил на лесопилке Тернера странствующий агент отделения Библейского Общества в Ричмонде. — Внимай этой святой книге, Натаниэль, — мягко и отрешенно сказала она, — и счастье не покинет тебя, куда бы ты ни направился. Никогда не забуду, как я был взволнован, когда она вложила мне в руки коричневую, в тисненой коже, книгу Священного Писания. И впрямь, на тот момент я был, сам о том не подозревая, вероятно, единственным во всей Виргинии черным юношей, кто владел книгой.
От радости у меня голова пошла кругом, меня затрясло и бросило в пот, хотя по дому вовсю гуляли сквозняки, а день был весьма холодный. Я преисполнился таких разноречивых чувств, что не смог даже поблагодарить благодетельную даму, а просто повернулся и пошел в свою комнатку, где уселся на набитый обертками початков тюфяк под льдистым косым прищуром зимнего полдня, не в силах приподнять обложку, не говоря о том, чтобы прочесть хоть бы строку. Помню запах кедровых поленьев, горящих в кухонной печи позади меня за стеной, и тепло, которым веяло в спину с кухни через щели в стене. Еще помню раздающиеся по дому звуки клавесина, неразборчиво тренькающего далеко в главной зале, и голоса белых людей, грянувших рождественскую песнь: “Возвеселитеся, в градах и весях! Радуйтесь, грядет Христос!..”, а я сижу, все так же стиснув неоткрытую Библию, и гляжу сквозь кривое и морщинистое слюдяное окошко на сирый, продутый ветрами склон — там негры из нижних хижин толпой поднимаются к дому. От холода закутанные в грубые и бесформенные, но добротные зимние одежды, которыми маса Сэмюэль их обеспечил, на подходе к дому они выстраиваются гуськом: мужчины, женщины, негритята идут получать свои рождественские дары — погремушки и кульки с леденцами детям, метр-другой ситца женщинам, плитку табака или дешевый складной нож мужчинам. Все какие-то потрепанные, неопрятные, неуклюже топают по замерзшей дорожке мимо окна; доносится гомон их болтовни, радостной и возбужденной в предчувствии Рождества, громкий беззаботный смех, грубая негритянская пикировка. Это зрелище вдруг наполнило меня сильнейшим отвращением, доходящим до омерзения и рвотных позывов, и я отвел глаза, открыл, наконец, Библию и прочитал слова, значение которых тогда напрочь не понял, но не забыл их, и теперь, в свете всего происшедшего, они засверкали в моей памяти, как будто испытав преображение: От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа? раскаяния в том не будет у Меня...
За исключением маса Сэмюэля и мисс Нель (вот разве что еще брат Бенджамин бегло промелькнул), едва ли я способен вспомнить кого-нибудь из семейства Тернеров. Мисс Элизбет — вдова Бенджамина — остается всего лишь тенью на краю сознания: костистая, всегда какая-то заплаканная, угловатая женщина, она своим дрожащим голоском недурно пела, и, когда бы ни пытался я вызвать в памяти ее образ, оживает лишь голос — бесплотный, истомленный, хрупкий, как камышинка, с мелодично-суховатым англосаксонским подвыванием. Она страдала чахоткой и поэтому часто уезжала на побережье в окрестности Норфолка, где, по мнению врачей, сырой соленый воздух был для нее целебен, а в результате я видел ее редко, да и то лишь издали.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
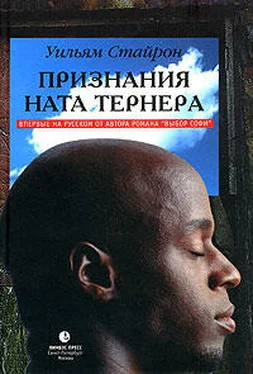




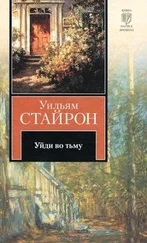




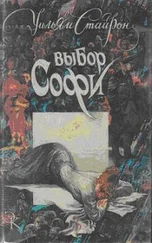
![Уильям Стайрон - Выбор Софи [litres]](/books/403897/uilyam-stajron-vybor-sofi-litres-thumb.webp)