Между прочим, теперь мне кажется, что именно мисс Нель невзначай дала мне понять, насколько особым стало мое положение в семье, а произошло это, когда я лежал больной примерно за год до кончины матери, вроде бы осенью, сразу после того, как мне стукнуло четырнадцать. Ни тогда, ни впоследствии мне не сообщили названия поразившего меня недуга, но, должно быть, он был серьезен, потому что мочевой пузырь у меня обильно кровоточил, дни и ночи меня терзала жестокая лихорадка, которая вызывала дикие видения и кошмары, в которых день с ночью, сон с явью безнадежно перепутывались, и окружающая обстановка становилась настолько нереальной, будто я откочевал в какие-то иные пределы. Смутно помню, что меня перенесли с соломенного тюфяка, который я все еще делил с матерью, куда-то в господские покои, где я лежал в необъятной настоящей кровати на льняных простынях, вокруг меня ходили на цыпочках, а говорили шепотом. Там, несмотря на бред, я ощущал ежесекундную заботу: вот осторожно приподняли голову, дают попить — нежные белые пальцы подносят к моим губам высокий стакан. Те же бледные руки появлялись у меня в поле зрения постоянно, как во сне, мелькали перед глазами, меняя на горящем лбу фланельку, смоченную прохладной водой. Спустя неделю я мало-помалу пошел на поправку и еще через неделю возвратился в комнату матери, вначале очень слабый, но вскоре уже мог приступить к привычным обязанностям. Никогда не забуду, как в самый разгар болезни, когда посреди горячечного кошмара вдруг выдалось мгновенье ясности, я услышал полный страдания голос мисс Нель, ее слова, произнесенные шепотом за незнакомой дверью незнакомой комнаты:
О, Господи, Сэм, бедный наш мальчик! Бедный маленький Нат! Надо молиться, Сэм, молиться, молиться! Нельзя допустить, чтобы он умер!
Короче, я превратился в баловня, в домашнего любимца, в этакую черную зеницу ока всей лесопилки Тернера. Меня нежили, ласкали и тискали, мне потакали и носились со мной, как с балованным испорченным дитятей, я превратился в смешливого эльфа в крахмальной блузе, который только и делал что смотрелся в зеркала, бездумно сосредоточенный на своей способности очаровывать. То, что прихотям белого ребенка потворствовали бы куда менее охотно, то есть что сам цвет моей кожи был главной причиной дарованных преимуществ и послаблений, мне и в голову не приходило, я этого, без сомнения, даже не понял бы, если бы кто-то попытался мне объяснить. Неудивительно поэтому, что с уютной и безопасной дистанции, которую невежество и самодовольство мне предоставляли, я все больше склонялся к тому, чтобы смотреть на негров, работающих в поле и на лесопилке, как на существа низшие, недостойные даже презрения, и настолько лишенные качеств, привычно связанных в сознании с безбедной и достойной жизнью, что они не стоят даже насмешки. Стоило какому-нибудь жалкому, потному и вонючему пахарю, раскроившему себе босую ногу мотыгой, по недомыслию забрести прямиком к балюстраде веранды и там начать перемежаемые жалобными стонами уговоры, дескать, ради Христа, ну, пожалуйста, попроси у доброго барина какую-нибудь “пилипарку” на рану, я сразу же с ледяным презрением в голосе направлял его куда следует, то есть, конечно, к заднему крыльцу. А то еще набежит, бывало, ребятня из негритянских хибарок, и неважно, что без всякой задней мысли — нет, все равно: нарушили границу, не для вас лужайка на холме! — я сразу хвать метлу с длинной палкой и в крик; впрочем, очень-то из-под прикрытия кухонной двери не высовываясь. Вот до чего зазнался черный мальчишка — впрочем, быть может, единственный из всего своего рабского племени, кто действительно прочел кое-какие страницы произведений сэра Вальтера Скотта, знал, сколько будет девятью девять и как зовут президента Соединенных Штатов, знал, что есть на свете континент Азия и как называется столица штата Нью-Джерси, вдобавок мог правильно написать такие слова, как Паралипоменон, Апокалипсис, Неемия, Чезапик, Саутгемптон и Шенандоа.
Кажется, это было весной на шестнадцатом году моей жизни, когда маса Сэмюэль, встретив меня на лужайке после полуденной трапезы, отвел в сторонку и объявил о довольно странной перемене в распорядке моей жизни. Несмотря на то, что я чувствовал себя в семье хозяина своим и близким, по-настоящему меня в семью никто, конечно же, не принимал, и не все семейные обычаи на меня распространялись; мог проходить день за днем и неделя за неделей, пока маса Сэмюэль хотя бы мельком вспомнит обо мне, особенно в долгую страдную пору сева или жатвы, поэтому те моменты, когда он обращал на меня свое внимание, я помню с полнейшей, рельефной ясностью. В тот раз он заговорил о моей работе по дому, похвалил за расторопность и усердие и добавил, что о моих успехах хорошо отзываются мисс Нель и молодые барышни, отмечая сообразительность и находчивость, которые я прилагаю не только к занятиям науками, но и к ежедневной работе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
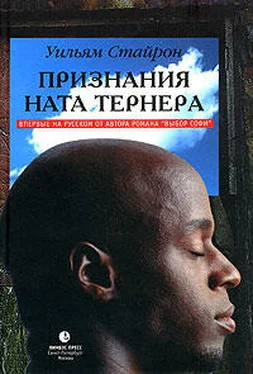




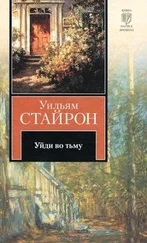




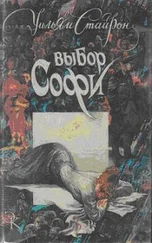
![Уильям Стайрон - Выбор Софи [litres]](/books/403897/uilyam-stajron-vybor-sofi-litres-thumb.webp)