Кобб снова заговорил.
Есть ли у тебя что сказать суду, чтобы не выносили тебе смертный приговор? — Голос его был дрожащим, слабым, мертвенным.
Нет, нечего, — ответил я. — Я сделал полное признание мистеру Грею, и мне нечего больше добавить.
Слушай тогда приговор. Ты привлечен к суду и обвиняешься в одном из тягчайших преступлений нашего уголовного кодекса. По твоему делу учинен судебный розыск. Ты признан виновным в злоумышлении с целью массового убийства как мужчин, так и беззащитных женщин и малолетних детей... Представленные улики не оставляют тени сомнения, что твои руки запятнаны кровью безвинной жертвы, а твое признание говорит нам, что они также обагрены кровью и твоего хозяина, по твоим же собственным словам, чересчур снисходительного к тебе. Буде я мог на том остановиться, твое преступление уже было бы достаточно тяжким... Но ты самоличным наглым произволением вдобавок измыслил план, безжалостный и дерзкий, пусть даже и невыполнимый изначально, и ухитрился так далеко зайти в его воплощении, что лишил нас многих наших ценнейших граждан, подкрался к сонным, сделав это так, что потрясены были самые основы человечности... И, раз уж мы коснулись этого аспекта, я не могу не привлечь твое внимание к бедным обманутым мерзавцам, которые прошли здесь — и ушли — прежде тебя. — На секунду он сделал паузу, тяжело отдуваясь. — А ведь их немало, этих бывших твоих ближайших подручных, их кровь тоже вопиет, взывает к тебе как к смутителю и первопричине их несчастья. Да. Силком, неподготовленными ты бросил их из времени в вечность. Теперь тебе, согбенному под тяжестью вины, смягчить ее может только то, что в никуда завел тебя твой фанатизм.
Он снова помолчал, взирая на меня с какого-то жуткого, неизмеримого расстояния, где не одни только глаза, но и вся его бренная плоть, и дух его, казалось, пребывали — далекие, как звезды.
Что ж, если так, — медлительно перешел он к окончанию речи, — то мне от всей души жаль тебя, но при всем сочувствии я призван огласить приговор суда... Время между его оглашением и казнью непременно будет весьма кратким, и единственная твоя надежда — это иной мир. Вердикт суда таков: из зала тебя надлежит отправить назад в тюрьму, откуда тебя привели сюда, затем к месту казни, и в следующую пятницу, одиннадцатого ноября, на рассвете ты будешь повешен за шею до наступления смерти! смерти! смерти! — и да пребудет милость Божия над твоей душой.
Мы взирали друг на друга с огромного расстояния и при этом были близки, ужасающе близки, как будто на краткий миг нас объединило знание некоей сокровенной тайны, неизвестной никому другому — тайны времени, тайны бренности бытия, тайны греха и горя. В тишине печь пыхтела и ярилась, будто огненная буря заперта в ней между адом и небесами. С лязгом отворилась дверца. Тут мы перестали смотреть друг на друга, и рев голосов вовне взорвался громом.
В тот вечер, когда Харк говорил со мной сквозь щели стены между камерами, я ощущал в его голосе боль и усталость, слова перемежались хрипами и бульканьем, будто квакает лягушка. С такими ранами только Харк мог протянуть так долго.
Грудь ему прострелили в августе, в день, когда нас разбили. Раз за разом его носили в суд на носилках; им, видимо, и повесить его придется привязанным к стулу. Мы двое уйдем последними.
Опускались сумерки; холодный день клонился к вечеру, и свет начал вытекать из камеры, как из сосуда, оставляя в углах темноту, а кедровая скамья, на которой я улегся, стала холодной, словно каменная плита. Снаружи на ветвях кое-где еще держались листья, в сером полумраке холодный ветер шептал что-то злое и резкое, то и дело промелькивал на пути к земле сорвавшийся лист или его вдруг с сухим царапающим звуком забрасывало в камеру. Временами я прислушивался к Харку, но, главное, ждал Грея. После суда он сказал, что вечером зайдет, и обещал дать Библию. Мысль о Библии держала меня в жадном напряжении, словно я целый день томился жаждой в иссохших выжженных полях, и кто-то должен принести мне полные ведра прохладной чистой воды.
Уж это верно, Нат, — донесся до меня голос Харка из-за стены, — да, многих, многих негров потом поубивали, пока ты прятался. И ведь не только наших. Я слыхал так, что, может, сотню, а может, и куда больше. Да, Нат, белые как налетели, что твой осиный рой, и такая свистопляска пошла — негров топтали прям повсюду. А ты не знал, Нат? Это уж да, топтали по-страшному. Белых-то видимо-невидимо съехалось, со всей страны. Толпами набежали — и из Сассекса и с Айл-оф-Уайта, откуда только не понабралось их, негров прямо в землю втаптывали. Им без разницы, был ты с Натом Тернером, не был, все едино. Жопа черная — давай, получай свинца! — Харк на время умолк, и доносилось лишь его трудное, изможденное дыхание. — Говорят, потом — ты уже прятался тогда — какой-то старый свободный ниггер стоял себе в поле где-то поблизости от Дрюрисвиля. А белые, подска-камши, остановились, орут: “Это округ уже Саутгемптон или не Саутгемптон еще?” Ниггер в ответ: “Дак вы, сэр, границу-то еще вона где переехали”. Вот дух из меня вон, Нат: в тот же миг белые его и пристрелили. — Он снова помолчал, потом говорит: — Еще про негра по имени Стейтсмен говорили, тот вообще далёко жил, аж за Смитовой Мельницей, про заварушку слыхом не слыхивал, да и с головой у него туговато, понимаашь ли. Так его хозяин — ну, вообще дико осерчал, ну вусмерть; короче, взял старого Стейтсмена, к дереву привязал и давай палить в него, таких дыр наделал — скрозь аж солнце видать. Да уж, Нат. Наслушался я за эти месяцы в тюрьме грустных баек...
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
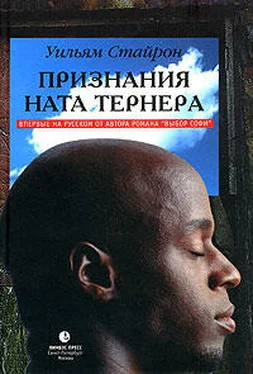




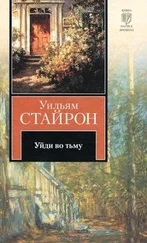




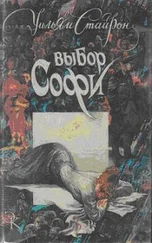
![Уильям Стайрон - Выбор Софи [litres]](/books/403897/uilyam-stajron-vybor-sofi-litres-thumb.webp)