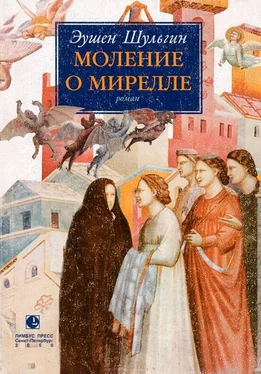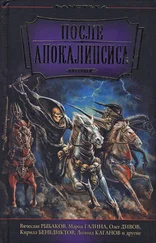Dottore Берци молча кивнул тете и коснулся губами ее руки. Его лысина блестела, как свежеотполированная. Черные брови ходили вверх-вниз. Бережно положив руку пациента обратно на одеяло, он переместился к столу, где, позвякивая болтавшимся на шее стетоскопом, принялся искать что-то в своем битком набитом саквояже. Затаив дыхание, мы следили за каждым его движение так, точно искомая им вещь рассказала бы нам правду о состоянии Малыша. Пока все, сгрудившись над столом, шептались, я не сводил глаз с братишки. Он, не подверженный никаким болячкам, лежал и прерывисто дышал. Черт бы побрал этого Джуглио с его оливковым маслом! За болезнь Малыша он ответит сполна!
— Малыш, — прошептал я, — мы прижучим Джуглио. Рикардо и «бешеные» нам помогут. А потом или забьем его камнями, или, если хочешь, разденем его и пусть бежит нагишом от пансионата до самого рынка. Вот увидишь, Малыш, вот увидишь… — Слезы жглись.
Как душно! Вся спина взмокла. Простыни липнут к телу. Надо попробовать дышать в такт с Малышом. Тихие голоса родителей у стола. Тетина спина на краешке дальней кровати. Папин и тетин голоса у стола. Мамина спина у кровати. Тетин и мамин голоса… Время отсчитывает «бум» всякий раз, как ампулу кидают в стакан. Нина спит как сурок. Наверняка у меня температура, но до меня никому нет дела. Стыдно, Фредрик!
Голубая лампочка освещает узкую лесенку в пансионате Зингони. Она выходит в сдавленный проулок, который тянется к Доменико Кавалко и с каждым шагом делается все заманчивее. Я стою в плаще и изо всех сил вжимаюсь в стену — чтоб меня не заметили сверху. За мной Малыш — тоже в плаще. И голосок его, низкий, дрожащий, молящий:
— Я тоже хочу с вами!
И я в ответ, грубо, непререкаемо, чтоб знал свое место:
— Нет! — Малыш начинает стрелять глазами:
— А я маме пожалуюсь!
Бам! Оплеуха обжигает ладонь. Отвисшая челюсть Малыша. Удивление душит вопль.
— Ты меня никогда не бил! — голос мне в спину.
Только мои шаги удаляются по проулочку, разносятся по всему кварталу, нарочно. Руки в карманах брюк сжаты в кулаки. Я был неприступен, как крепость. Забыл ли ты?
Я бросился на кровать. Узор на обоях. Дырки, которые мы расковыряли, Малыш и я. Головы взрослых над столом. Dottore Берци бормочет, все остальные кивают в такт. Прежде чем уйти, он жмет всем руки, маленький доктор с огромной сумкой.
— Подождем, посмотрим…
Мама выходит с ним в коридор. Отец и тетя онемело глядят друг на друга.
Узор на обоях расплывается. Наши пальцы затерли его. Только не спать. Если я буду бодрствовать всю ночь, Малыш поправится. Лицо Миреллы. Тонкие губы, высокий лоб — и глаза, они смотрят прямо в меня. Если б я знал хоть одну из ее молитв! Темные одежды на скамьях в церкви. Стоптанные до белизны подметки. Дрожащий стук перебираемых четок, которые все стучат, стучат. Бормотание и воздетые к небу глаза. Абракадабра, симсим, откройся! Нет, нужно знать слова, пароль, который отомкнет гору и выручит Малыша из горячечного плена. Они не знают, Малыш, но я спасу тебя. Вот увидишь! Дом посреди лоренцеттиевского ландшафта, жаркая нега в тетиной кровати — предательство! Пока я мечтал о побеге, ты уже мучился первыми предвестниками болезни.
Ужас мячиком мечется по комнате, из угла в угол. Все спят. Мама на стуле, уронив голову на плечо. Плед сполз на пол. Руки с книгой лежат на коленях. Отец в постели, на спине, рот открыт и ноздри чернеют, как входы в пещеры. Из гротов этих вырывается сон. Под мышкой торчит головенка Нины. Тетя ушла к себе. И Малыш спит. Который сейчас может быть час? За окном почти светло. Дом наполняется первыми утренними звуками.
Ты еще не поправился. Малыш, это видно по лбу. И руки горячие. Я тут у тебя, забрался поближе, а сквозь простыни так и пышет жаром. Твои узкие, точеные бедра, руки, поджарая попка — все как будто в два раза потяжелело, так кажется, когда гладишь тебя кончиками пальцев. Не вешай нос, Малыш. Я тут, а то, что я задремал на полминуточки ночью, — так это не считается, правда? Ты даже и не заметил небось. А когда поправишься, я назначу тебя генералом и поиграю с тобой в машинки и дам тебе солдатиков — всех-всех, даже командира на коне!
Так его болезнь не поборешь, это я знал. И прижиматься к нему было неприятно. Я приладился поудобнее. Приблизился, его лицо придавило меня, точно подушкой, забивая нос, рот, глаза. Может, лизнуть его? Я чуть отстранился, меня трясло так, что я побоялся разбудить Малыша.
— Что они с тобой сделали, Малыш? — Влажная простыня, с разводами братниной слюны, забилась в рот. Что же делать? Что им надо? Кто скажет? Мирелла. Но ее здесь нет. А если пойти на confessione? Сможет ли preto рассказать мне, как себя вести? Я снова увидел этот чуланчик, затянутый фиолетовой материей. Услышал чье-то бормотание внутри. И даже мысли, ему нужно рассказать все-все… «Молись, мальчик, молись!» Но я не умею, не могу я. А Он там, на стене, позеленевший, окровавленный — и зубастый. А как же руины — и инвалиды — и калеки — и убогие, попрошайки, идиоты, уроды, лишенцы, брошенные — нет, нет, нет! Разве Он может кому-нибудь помочь? Да, солдатам помогает, сам видел, на кладбищах. Они в благодарность ставят свои фотографии, букеты, мраморные камни. В церквах зажигают свечи: «Спасибо за то, что одарил нас жизнью». «Спасибо за то, что ты благоволил дать нам убить других, а не им — нас». Летчики-бомбардировщики, не сбитые во время своих налетов, они-то уж точно дома у себя повтыкали таких столбиков на кладбище — и вместо себя положили под них фотки.
Читать дальше