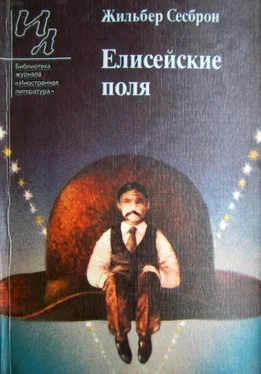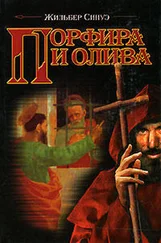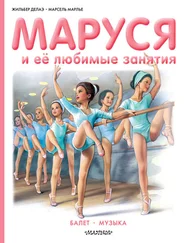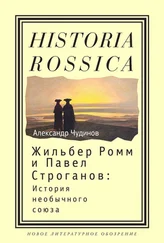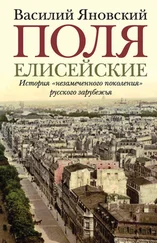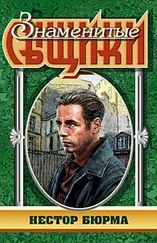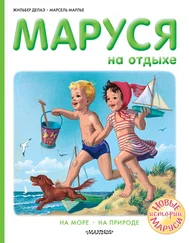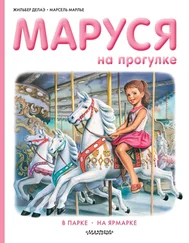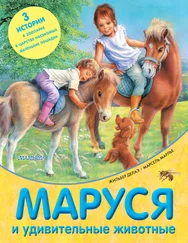Ключом к пониманию Сесброна во многом служит его «антиутопический» рассказ «Электронный мозг», где действие происходит в XXI веке и где специально сконструированная ЭВМ, располагающая исчерпывающими данными о юном герое (о состоянии его здоровья, об умственных способностях, вкусах, привычках), безошибочно указывает профессию, которую ему надлежит выбрать («адвокат»), девушку, на которой следует жениться ровно через два года («ровесница, худощавая блондинка» — выбор невесты машина берет на себя), точный адрес квартиры, которую он должен снять, и т. п. Машина действует «из лучших побуждений», она навязывает Жану-Марку оптимальный вариант его судьбы, но тем самым не оставляет ему никакой свободы. И тогда герой взрывается: «Меня зовут Жан-Марк… Это мое собственное имя, и я свободный человек… Я стану краснодеревщиком… и поселюсь в доме у реки с женщиной, на которой я женюсь в этом году. Она брюнетка… старше меня и вовсе не худощавая. Ее зовут Свобода. Понятно вам? Свобода!.. И мы оба — единственные и неповторимые. Понятно? МЫ ОБА — ЕДИНСТВЕННЫЕ И НЕПОВТОРИМЫЕ…»
Но что же неповторимого в таких вот Жанах-Марках, которых, как сообщает непогрешимый компьютер, во Франции насчитывается не больше не меньше как 953 504 человека? Что неповторимого в персонажах Сесброна?
Неповторимость для него — не в уникальности личности, а во внутреннем единстве ее жизненных установок, не в степени оригинальности «я», а в степени его самотождественности, которая не позволяет вытеснить себя никакому другому индивиду, потому что ни один человек не может быть замещен в акте своего решения; никто не может сделать за него его нравственного выбора и переложить на свои плечи ответственность за этот выбор. А отсюда, по Сесброну, следует, что если далеко не всякому дано пережить яркую захват тающую судьбу, если не всякая личность обладает богатством, глубиной и разнообразием, то зато всякая в основе своей нравственно значительна. Взятые извне, со стороны своей «функциональной полезности», люди и вправду могут быть восприняты как стандартные винтики, но взятые изнутри, со стороны своей нравственной сущности, все они без исключения — «единственные» и «неповторимые», так что к любому из них применимы слова Гейне: «Разве жизнь отдельного человека не столь же ценна, как и жизнь целого поколения? Ведь каждый отдельный человек — это целый мир, рождающийся и умирающий вместе с ним, под каждым надгробным камнем — история целого мира» [1] Гейне Г. Собр. соч. в 10-ти томах, 1957, т. 4, с. 224
. Сесброн подписался бы под этими словами, только он не стал бы настаивать на отдельности — отделенности — людей друг от друга, поскольку нравственный выбор личности, с его точки зрения, предполагает ее неизбежную ответственность не только перед самой собой, но и перед всеми теми, кто вовлечен в круг этого выбора. Сержант Тевенен, который, вернувшись домой, «снял шинель и мешок, а заодно снял с себя и ответственность» за любовь, которую предал, поплатился за это безысходным одиночеством («Немецкая овчарка») ибо личность, по Сесброну, утверждает себя не «центростремительно», а «центробежно» только тому, кто способен хоть в чем-то пожертвовать своим эгоистическим покоем ради другого, дано рассчитывать на ответное чувство. Верность своему «я» не разъединяет, но, напротив, объединяет людей и позволяет надеяться на торжество понимания и справедливости, человеческой солидарности и общезначимых этических ценностей — таково кредо Сесброна.
Уверенный в неистребимом достоинстве «маленького человека», Сесброн стремился и в него самого вселить такую уверенность, устанавливая неподдельный гуманистический контакт с «детьми своего сердца».
Г. Косиков
переводчик Вал. Орлов
Устроившись на своем обычном месте в автобусе, господин Пупарден вытаскивал носовой платок и трижды шумно сморкался; потом складывал его, приглаживал им сначала левый ус, затем правый и со словами: «Прошу прощения, мадам» — отправлял его в карман брюк. После этого он окидывал взглядом школьного учителя, соседку и остальных пассажиров, доставал часы, которые в это время неизменно показывали три минуты девятого, клал их назад в жилетный кармашек и неспешно разворачивал «Фигаро». Подняв брови, он пробегал первую страницу с видом монарха, которому его верноподданные — мореплаватели, ученые, миссионеры — представляют отчет обо всем, что они совершили, но который воздерживается выказывать им свое удовлетворение, а затем, какие бы события ни сотрясали мир, он первым делом углублялся в светскую хронику.
Читать дальше