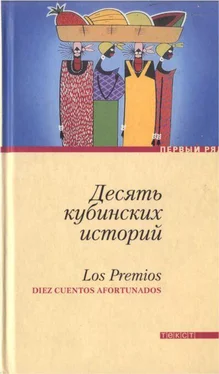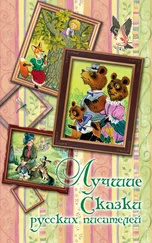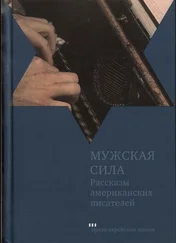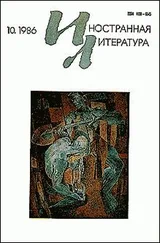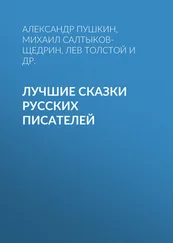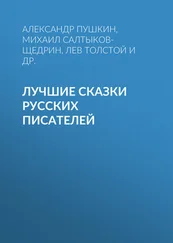Что, собственно, с нами произошло, я до сих пор не понимаю. В то утро диск принесли в подвал на время и тут же унесли, а ночь и Литл Ричард остались. Больше «Битлы» там не гостили, и на полке с дисками рядом с «Пятнадцатью песнями Пола Анки» и «Элвис возвращается» возник широченный вакуум. Никто уже не слушал «Лос Камисас Неграс» и Маноло Муньоса — их постигла опала за старомодные голоса. Мы с Роберто больше не смывались украдкой в бары на Седьмой авениде слушать Луиса Браво и Луиса Агиле. Появилась особая ностальгия — так сказать, ностальгия загодя, возникшая, когда мы еще не знали радости, по которой тосковали. Те, кто не имел возможности слушать «Битлз», отвергли все. Теперь мы смирялись со звучанием «Люсиль» только в синей темноте подвала, а другие вещи крутили, чтобы вспомнить былое. Обдулио сидел на корточках у кипы старых дисков, вновь и вновь переворачивал их с одной стороны на другую. Было грустно слушать эту музыку, танцевать касино, жевать кофейные пирожные и чувствовать ностальгию, которая захлестывает нашу компанию на излете ночи: слева в окно сочится свет, и Браче выворачивает синюю лампочку, и мы остаемся одни, одинокие, как никогда.
Под конец года, незадолго до Рождества — или новомодного суррогатного рождества, без праздничного ужина, без халвы, в школу назначили нового директора — некоего Карраско, а завтраки отменили. Ужины отменили еще раньше.
И шли дожди, той зимой дожди почти не прекращались, и нам выдали оливково-зеленые макинтоши и тяжелые ботинки с круглыми носами, которые громко плюхали по лужам. С Глорией стал встречаться Деметрио Пила. Однажды он пообещал нам «Битлов» — клялся, что дома у него есть последний лонгплей. Потом я заболел гриппом, и меня положили в больницу на углу Двадцатой улицы и Первой авениды, и Армандо Альмагер-и-Алдана сообщил мне: «Битлз» уже распались, старик, теперь самые крутые — это «Кинкс». Когда я вернулся, с кругами под глазами, бледный после горячки, с удовольствием слушали только «Лучшие хиты» Литл Ричарда, диск двоюродной сестры Эспонды.
Но ночь все-таки не кончалась, и полуразрушенный подвал кренился, но держался, и виднелись руины Билли Кафаро, Ричи Нельсона, Пэта Буна, и выкуривались украдкой сигары, и Ричард лаконично распоряжался: «Потушите свет, живо». Валье все знал, но ничего не предпринимал, а если предпринимал, то незаметно, пока прохаживался по двору своей спотыкающейся походкой, перед тем как созвать всех на линейку. Валье окидывал всех быстрыми взглядами, улыбался очень редко. Кожа у него была вроде негритянской, но с синеватым отливом, глаза навыкате, умные, блестящие. Он не косил под черных: не носил ни шейных платков, ни мокасин, ни сапожек с пряжками на высоком «голливудском» каблуке. В Валье не было ни капли легкомыслия. В школе он уже был заправским аппаратчиком — имел дар повелевать и так далее. Он любил шахматы и физику, а по ночам предпочитал тишину. Вообще-то он был неплохой парень из Лас-Вильяса. Но состоял в Союзе революционной молодежи, такие вот дела.
В те дни, несмотря на постепенное разрушение подвала — пока незримое чужим явление, заметное лишь самым чувствительным душам, — он сообщался с другими как бы с помощью тамтамов; словно муравьи, мы разносили весть о каждой новой пластинке, соприкасаясь головами. Наши ритуалы, не предусмотренные школьным уставом, противоречили интересам начальства: ведь из нас поголовно воспитывали идеальных, стерильно-чистых учеников в аккуратной форме. Оказалось, что рок-н-ролл — враг: он ведь порождает атмосферу распущенности, благоприятную почву, на которой в наших душах произрастают нонкомформизм и бунтарство. Только в подвале мы чувствовали себя в своей тарелке, вдали от утренних линеек, от ежедневной маршировки строем в школу и обратно. В подвале мы забывали, что выходим в город раз в месяц, по увольнительным, что поневоле живем в заточении, что по Седьмой авениде проходит черта, за которую нам путь заказан. Потому в общежитии мы прибирались кое-как, нехотя, и койки заправляли нехотя, и ели тоже через силу — на обед нам теперь давали какую-то русскую кашу. Когда Валье проверял качество уборки, наличие карболки, график дежурства по мытью посуды, мы чувствовали: на нас давит какая-то внешняя сила. Валье примечал, чем мы заняты, а сам медлительно жевал и иногда даже смеялся над хохмами Браче или Гильермо Комика. Выбивая барабанную дробь смуглыми пальцами, проверял алюминиевые подносы и высоту стрижки под бобрик. Он все рассматривал, все щупал, а однажды даже похвалил узкие брюки, в которых вернулся из города Роберто Натчар.
Читать дальше