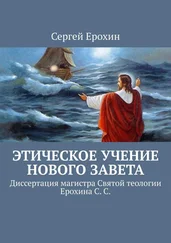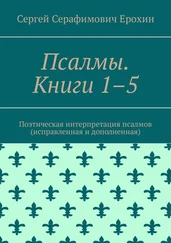Почтённую даму — постоянного соавтора ещё более почтённого критика и поэта — совершенно открыто, даже в торжественных речах, называл: "его боевая подруга".
Осетров ежедневно вставал в пять утра и писал до девяти. После чего включал телефон и, в ответ на извинения за ранний звонок, деловито информировал:
— Я уже давно и довольно плодотворно работаю. Вечерами его телефон никогда не отвечал.
Как-то Евгений Иванович поделился со мной своим творческим секретом — что делать, когда "не пишется":
— Возьмите чистый лист бумаги и пишите: "Мне не хочется писать, мне не хочется писать..." Часа через два захочется.
Над столом в его домашнем писательском кабинете висела большая цветная фотография хозяина с архиепископом Макариосом — с дарственнной Надписью на новогреческом языке.
Главный редактор научил меня никогда и никому не рассказывать ничего о том, что делается в стенах редакции. И сам, если звонили из правления и Интересовались, что у нас новенького, извещал предельно лаконично:
— Здесь абсолютно ничего не происходит: идёт обычная, нормальная работа.
В ответ на неустанные и неусыпные инсинуации книголюбов главный редактор недоуменно разводил руками:
— Мне бросают какие-то упрёки — а я даже не понимаю, о чем идёт речь.
А когда ему жаловались на наше с Гришей непослушание, благодушно-сочувственно сетовал:
— Я пытаюсь их воспитывать — но это очень трудное дело.
Когда Осетров хотел смешать кого-нибудь с дерьмом, он обычно рассказывал всюду, что эти люди звонят ему каждую ночь по телефону, угрожают, чего-то требуют или что-то предлагают. Это производило неизменный комический эффект, а опровергнуть было невозможно никак.
Евгений Иванович любил называть себя нищим, бессребреником, что нисколько не мешало ему регулярно наведываться за рубеж.
Возвратившись, рассказывал предельно скупо:
— Была хорошая погода — временами... В общем, я славно поработал.
— А как Париж?
— Было много книжных впечатлений. Должен сказать, что в букинистических у нас интереснее...
Но как-то раз не выдержал и, расправив плечи в светло-сером карденовском пиджаке, триумфально выдохнул:
— Ну где же ещё и бывать Осетрову, как не в Париже!
И никогда нельзя было понять, шутит он или говорит серьёзно, — интонация была неуловимо ироничной и двусмысленной, до колик раздражавшей дураков.
... Я вспоминал о "книжных впечатлениях" Осетрова, бродя по набережной Сены, сырой и серой, среди букинистических коробов, где выставлены щемящие сердце раритеты и акварели с видами Парижа, где меланхолический шарманщик с попугаем на плече свивает звенящие пряди как будто с детства слышанных мелодий под тихий шелест автомашин, спешащих уступить вам путь, и опавшей листвы под подошвами устало шагающих ног... Его уже не было в живых.
Мне вспоминаются стальной затылок центуриона, пухлые щеки, нахохленные совиные брови над леденящими ключами прозрачных, всего навидавшихся глаз... Он был простой и добрый барин.
В неясных ситуациях Осетров обыкновенно говорил:
— Пусть пройдёт время.
И очень часто — о действиях наших заклятых друзей:
— Это попахивает провокацией.
Но дело шло. Чредой тянулись авторы — и какие! — знакомые мне ещё по "Литроссии". Оживал на наших страницах полузабытый "серебряный век"...
— Альманах становится неуправляемым. Корчагин корчился от гнева, но поделать ничего не мог.
— Анархия — мать порядка? — спросил меня очередной раз Борис Антонович, по обыкновению, нервно постукивая левой искалеченной рукой-клешнёй по столу.
(История с опубликованным вопреки его запрету Хвощаном не давала вице-президенту покоя.)
— А вершит там всеми делами некто Розенфельд, — сказал Удодов со значением, склонившись к Корчагину, без улыбки, чуть потупясь, в ожидании якобы не ведомой ему реакции. Корчагин побагровел.
Вскоре, выгнав Пуховскую, он назначил Удодова начальником производственного отдела, в котором формально числился и я.
Узнав об этом, я подал заявление об уходе. Две недели проболел.
Я жил в избушке, в Пушкине, топил камин и, глядя на огонь, излучавший свет и тепло на четыре метра, за которыми были холод и тьма, ощущал одиночество и случайность огня в вихрях бело-чёрной беззвёздной, взметеленной ночи, когда ни звука не раздаётся за стеной, ни заплутавший путник, ни друг, ни враг не войдут в этот дом, затерявшийся в лабиринте изгородей и троп. А если бы в небе стояла луна, она наводила бы ещё большую волчью, морозную тоску, обжигающую душу, как край заиндевелого, выстывшего к утру ведра.
Читать дальше