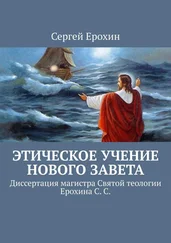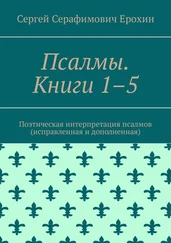Говорил он, как и всегда, многозначительно, с намёком на таинственные глубины своих возможностей, которые до времени, для пользы дела, лучше не открывать, чтобы потом они враз явились во всей своей полноте. И собеседник верил. И верил совершенно напрасно: Корчагин был лжецом — причём лжецом принципиальным, тонким, ухищрённым, которого и за руку-то невозможно было поймать. Он и сам, по-видимому, не видел существенной разницы между правдой и ложью — так уж сложилась его жизнь. В 37-м году, в тридцать неполных лет стать начальником главка — для этого нужны были феноменальные и вполне определённые способности.
(Вот так же, по свидетельству современников, не различал правду и ложь Алексей Максимович Горький, который жил словно в двух параллельных мирах — историческом и иллюзорном: он несколько месяцев уверял убитую горем мать, что сын её, сидящий в "чрезвычайке", жив — из самых лучших побуждений — чтоб "не переступить порог надежды", — отлично зная, что этот человек уже давно расстрелян и прах его развеян по земле.)
Корчагин страдал запорами и ненавидел из-за этого весь белый свет. Он завидовал всем, у кого кишечник работал нормально. Запах свежего кала вызывал в нем бешеное чувство зависти и ревности, как что-то маняще-недоступное, почти эротическое. И когда о чем-то или о ком-то говорили: "дерьмо", — это вызывало в Корчагине положительную эмоцию. Поэтому все представления о том, что плохо и что хорошо, были у него перевёрнуты.
Везде Корчагину виделись кишки и кучи дерьма. Он любил змей.
Время от времени Корчагин скрывался в кабинке туалета и долго тужился там, пытаясь выжать хоть что-нибудь из толстой кишки, — но тщетно. Он тщательно мыл руки, выходил, удовлетворённо улыбаясь, но обмануть никого не мог — все центральное правление знало, что Корчагин страдает запорами, так же как Бурилин — запоями, а Забродин — старообрядец, хоть и бывший военный атташе.
И все посмеивались над Корчагиным (потихоньку, конечно), как над старичком, женившемся на молодой.
Дина Мухаметдинова опять, как обычно, собралась в командировку в Душанбе.
О том, что Бурилин, как всегда, поедет в одном купе с Диной Мухаметдиновой, говорили спокойно, как о погоде. Он ездил, разумеется, в мягком вагоне, в двухместном купе.
— Борис Антонович, соберите нас, пожалуйста, — попросил плановик Старуханов.
Полковник Морозов, кося одним глазом, как бы прицеливаясь, скользнул в кабинет, сделал реверанс одной ногой, быстро шагнул в Корчагину, протянув обе руки, склонясь, пожал протянутую вялую ладонь и отступил, качнувшись затылком и всем корпусом назад.
— Здрассте, Борис Антонович! Как самочувствие? Корчагин кисло улыбнулся, махнул рукой: дескать, стоит ли о таких пустяках?
— Я вас вызову. ...
Морозов исчез.
Делов так и сидел с расстёгнутой ширинкой, что не совсем подобало дипломатическому генералу, хотя бы и в отставке.
...На плечах, окутанная дымкой ватных волос, одуванчиком плыла голова Корчагина — с большим лбом, вислым носом, карими глазками навыкате.
Удодов с Мотаевым кинулись подавать ему пальто.
— Спасибо, ребята, — стеснительно поблагодарил Корчагин, заметно растроганный...
— Он меня зовёт: Молодой Человек, — иронически сказал Мотаев.
Догмара Витальевна Пуховская враз оживлялась и становилась бурно разговорчивой, когда речь заходила о предметах и явлениях, понятных и знакомых ей, — например, о вязаных кофточках. Иногда приходил её супруг — смутный, анемично-сероватый, грузный субъект в толстых очках — служитель какого-то райкома. Она держала его в руках. Он её заметно побаивался.
Пуховская дважды съездила с Корчагиным в Грузию. Наверное, у него что-то не получилось, потому что вскоре он её выгнал, — сначала, после первой поездки, слегка приподняв: сделав начальником производственного отдела. После второй поездки фортуна Догмары Витальевны резко скакнула вниз.
— Надо же — десять рублей потерял! — бил себя по лбу Мотаев, имея в виду разницу в зарплате против прежней работы. — Идиот! Нет, завтра же — заявление на стол!
Но работал потом долго, может, и сейчас там же сидит. Его жена тоже служила в райкоме партии, чем он очень гордился и иногда туманно грозил.
Ещё у них было любимое выражение: "Партбилет на стол", имевшее в виду финал служебной ошибки и личную катастрофу.
— Я бы, конечно, разрешил, — говаривал Корчагин, — но партбилет у меня один.
(Попытки шантажировать меня возможным невступлением в партию — что должно было звучать угрожающе — я сразу отсек, сказав, что я и так недостоин и в партию вступать не собираюсь. Это было воспринято как парадокс, но больше к этому вопросу Удодов не возвращался.) "
Читать дальше