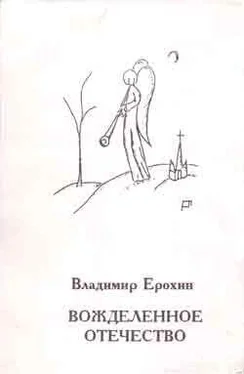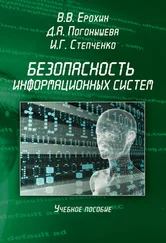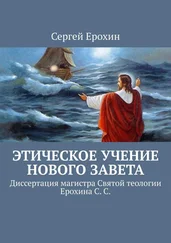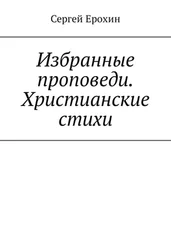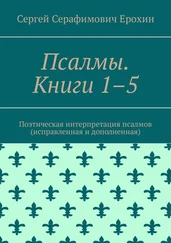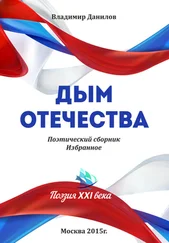Это книга о том, о чем ты сам думал, мучился, да не мог так сжато, точно, метко многое сформулировать.
И теперь мне кажется, что романы сейчас можно писать только так.
Это роман – хроника. Обо всем сразу, о жизни в ХХ веке. Но это не пугающее подробное описание деталей этой жизни, а острое прикосновение к чему-то чрезвычайно важному, когда от этого прикосновения вдруг освещается то один, то другой ключевой момент нашей жизни, дорисовывает важный штрих. Это философские раздумья о нашей жизни.
Книга состоит из множества лаконичных глав и подглав.
Каждая глава — итог, тезис, и элементы бытописания в ней, если таковые есть, — это краткие иллюстрации к чётко сформулированному тезису. Или только тезис – краткий итог глубоких раздумий.
Кажется, что главы не связаны друг с другом. Но это только кажется, это единый сплав того, чем мы живём, дышим.
Это те мысли, которыми мы постоянно обмениваемся при встречах, о чем сами долго и мучительно размышляем.
Вот первая фраза романа: «Россия – интересная страна, где, выйдя из дома, вы никогда не уверены, что вернётесь назад».
Нам ли не знать этого? Нам ли не расшифровать этой знаковой фразы историями жизней каждой семьи, не дополнить её, не приоткрыть тем самым бездну, в которую жутковато заглядывать.
Ведь похоронить в памяти нельзя ничего. Там все, как в колымской мерзлоте, — живо. Память нервов!
Я часто буду цитировать автора, не только для подтверждения своих мыслей, но и для того, чтобы дать возможность читателям почувствовать суровую прелесть авторской речи.
«Древний охотник нарисовал в пещере мамонта... В этом рисунке какой-то давний день вырывается из мертвящего потока времени, чтобы стать принадлежностью дня грядущего».
В этой книге все так. Каждая глава и главка «воскрешает минувшее в грядущее».
В этом смысле книга трудна и радостна, она требует постоянного сотворчества. Она будит то, что лежит на дне души, заставляет отложить книгу, уйти в свои мысли, и тем дальше и глубже, чем больше вобрал в сердце своё. А потом продолжить неспешное чтение, заложив, чем придётся, особо взволновавшие страницы, где живописуется не твоя, другая, но так похожая на твою, жизнь.
Не забыть, отметить хотелось все, т.е. пересказать всю книгу.
Заложенные в книгу листочки в конце концов мешают книге закрываться, так много их.
Это наша всеобщая биография, книга заставляет сопоставлять, вспоминать, волноваться, и если бы все читательские мысли, вспыхивающие при чтении её, воплотились в реальность, то книга разрослась бы до размеров невероятных.
Автор пишет: «У меня за годы советской власти выработалась хорошая привычка – как можно меньше знать, чтобы случайно под пытками не выдать».
Вот наша жизнь — под пытками, — а чтобы пыток не было, об этом не думалось… Пытки всегда в том или ином виде присутствовали. Но это же и у меня тоже, даже в моем детстве мысли о том же:
…Стали допрашивать первого, долго пытали его,
Умер товарищ замученный,
Но не сказал ничего.
Мой детский ужас, нежелание читать этих стихов на каком-то детском празднике, воспоминание о том, как у меня, маленькой, от страха сжималось сердце. А смогу ли я так? А вдруг не смогу? Какие пытки? Кто меня будет пытать? Будут, будут! Никто же не удивляется, читая эти строки. Значит, будут, будут.
Эта книга — послешестидесятые годы. Это новое другое, диссидентство, другое и старое, новый, но все тот же безумный жуткий абсурд другой жизни. Другой новой жизни, куда наше общество продиралось через послевоенные годы в другой, но тоже абсурд, правда, с проблесками чего-то нового в этой жизни. Что-то изменилось. Что же? Может быть, то, что мы уходим от иллюзий, видим все отчётливее, говорим все резче, определённее, но и безнадёжнее. Надежды наши другие, не шестидесятые, а, вернее, это уже освобождение от иллюзий, от надежд.
Надо приспосабливаться к новой жизни и не забивать себе голову очередными иллюзиями. Надо дело делать. В своём мире стараться делать как можно больше добра. Этому учит книга и жизнь автора.
«Как жизнь прожить, исполненную смысла?» — мучается автор и мы с ним.
Жизнь так же дика и абсурдна, но чуть помягче: не к стенке сразу, не в лагерь, а постепенно – на улицу, в котельные на ночные дежурства, в ночные сторожа, но и в психушки. Теперь уж кого куда, а то и за границу.
Автор с грустью отмечает, «что страна глупела на глазах: ненужные никому, уезжали, умирали, уходили в тень её лучшие умы».
Читать дальше