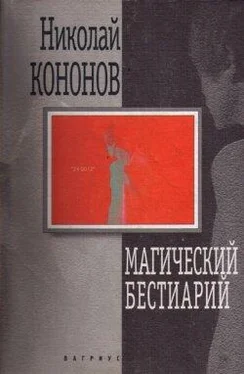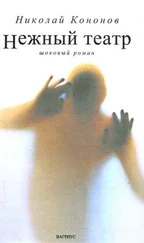Он легко и очень хорошо учился, специализируясь на самой сложной кафедре. И, конечно, в аспирантуру без всяких комсомольски-родственных зацепок не попал. И я не уверен, было ли ему это нужно, рассчитывал ли он на университетскую карьеру, вообще рассчитывал ли на что либо.
Он со странной и редкостной податливостью относился к жизни, с тихой улыбкой принимая ее несильные выверты и мягкие виражи. Каким-то чудесным образом он не вступил в комсомол и был правильным разрешенным процентом несоюзной молодежи. Процент, равный единице. Не больше единицы. И он не был больше. Ведь вполне можно было быть единичным во всеобщей туфте.
Вот с этого места моя память перестает быть соразмерной с каким никаким, но видимым укладом, а превращается в коллоид из слышанного, виденного, но, думаю, вполне достоверный.
Один наш факультетский острослов, звезда размером с белый карлик, сказал однажды о нем в пивной, что Леня, мол, педераст. Я не знаю, откуда он это взял. Но это хоть и проистекало отчасти из его облика, было абсолютной неправдой. Он был просто грустный девственник. Дева. Дев. Дево. Хотя, я думаю, попадись на его пути опытные старшие компаньоны, он пошел бы, куда его поманили, в любую вечереющую даль. И вечер принес бы ему облегченье.
Но на его пути не было ни мужчин, ни женщин, так как он был не от мира сего и носил на себе печать.
Вот я вижу его в амфитеатре большой физической аудитории. Перерыв между лекциями и он взошел для меня из сумерек и теней в плохоньких джинсах, в выношенном кавказском свитере с растянутой горловиной – на сером белый узор. Между полированой скамейкой и пюпитром большая неудобная пауза, и он соединяет собой их мягким стеариновым сталагмитом, он растет снизу, а не стекает.
Он так внятен, потому что сам в небытии.
И я способен убедиться в недостоверности этой галлюцинации, если бы не белая кожа запястий и лодыжек, показавшаяся из-за его напряженной позы из-под одежды. Ведь у него была несколько широковатая кость.
Меня перехлестывает волна сострадания.
Я не могу насытиться этим реальным зрелищем.
И кто поручится за то, что его уже нет вообще, если я вижу его и знаю отчетливо каждую деталь его существа без посредства медиума, просто сострадая его завершенности.
Он улыбается чтению.
Он читает странные для нашего круга книги – Рабле, Эразм Роттердамский, Стерн, он их берет у белого карлика, коему обязан содомической рекомендацией.
Он смеется.
Я помню его жест, сопутствующий улыбке.
Он подносит к губам ладонь.
Ладонь, свернутую в раковину, чтобы улыбка не улетела. Он трет кончик прямого носа.
Он редко улыбается полным ртом, показывая ровные голубоватые зубы. Обычно соразмерно происходящему растягивает сжатые губы в сочувственной ухмылке.
У него красивый темный рот, если бы не эта привычка все время сжимать губы и прикрываться рукой, но пару раз я слышал его низкий легкий хохот и видел замечательный оскал ровных зубов.
Если сегодня выдастся неплохая погода, я смогу проводить его до самого дома, ведь он всегда ходит один. Я буду семенить тихо. Как вечереющий час. Отстав на четверть минуты или на полкорпуса.
Образ Лени стал возможен, когда наступило его небытие, и он сам на сложившуюся сумму никак не повлияет.
Это образ – его небытие.
И был ли он вообще – вот проблема.
Он словно предел репортажа – и вот я ничего не могу сказать, ведь он никогда на меня не смотрел, так, может быть, искоса, чтобы я не перехватил его стесняющегося взгляда. Ведь когда я открыто взглядывал на него в ответ, я наталкивался на жалкость и грусть, и они вместе оказывают на меня душераздирающее впечатление. Будто я должен извлечь его из этого оптического колодца, где на дне – он сам – жалкий и ширококостный, с штриховкой черных волосков, видных в вороте растянутого свитера, похожий на первомученика.
На границе безумия.
По ту сторону от смерти.
Я теперь все это понимаю.
Да, я сегодня провожу его до самого дома, может быть, зайду вместе с ним к нему.
Пока подожду у дверей туалета. Он никогда не пользовался писсуарами, всегда норовил закрыться в кабинке, а в стройотряде отойти подальше ото всех, брызгающих на косогор петергофом с сигаретами в зубах.
Дождусь у гардероба, когда он оденет свое куцее пальто с цигейковым воротником и растянутую вязаную шапочку: эти вещи почти истаяли из моей памяти и стали признаками вещей, знаками неблагополучия или, по меньшей мере, безразличия.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу