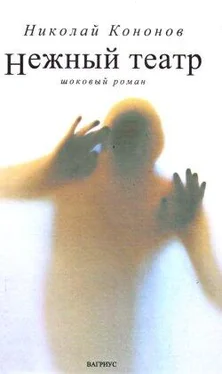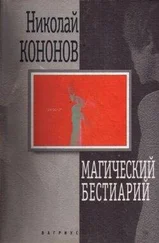Вот скетч. Учебный фильм. Середина жаркого лета.
Буся режет крутые яйца для окрошки. За окнами – летний ливень. Внезапный, как и должно быть в наших краях летом.
– Больно крупно, Любовь, ты что-то яйца посекла. Крупно, говорю. Почему? А потому, что значит сейчас град пойдет.
И действительно, небо моментально напрягалось, в его чернильницу бухала гроза, мы включали свет, и ливень обращался градом. Сверху сыпалась прозрачная скользкая фасоль. Будто прорвался пакет.
Бабушка вздыхала как радио:
– И посевам не повезло.
Это «и» означало, до града не повезло всем остальным.
Бабушка, забывшись, возражает радио, выкрученному на полную громкость.
– Знаю, зная я твою брехню хваленую, как индюк растренделся, – едко говорит она, издеваясь над диктором, и машет раздраженно газетой в сторону радио как на муху.
Мужской голос, полный галантности, только что провозгласил прогноз погоды. Словно замечательное стихотворение, сочиненное к этому часу.
– Вот-вот, солнечно-то оно может и солнечно, без тебя вижу, и все одно – дождю быть! Что тогда и в левом колене подсвербливает.
Она уже говорит не диктору, а в том же раздраженном регистре себе, своему потаенному учебнику великого русского языка:
– «Дождю быть» или «дождю бывать», как правильно-то…
Дальше, уже молча, она ведет диалог сама собой, и речь как змея легко вернулась в щель ее рта. Она лишь поправляет высокий, еще не сползший на затылок пучок. [37]
К вечеру он съедет к самому воротнику пестрого халата. Словно в цветник.
Характерный автоматический жест всегда свидетельствует о напряженной умственной работе. Она словно затыкает пучком шевеление клубка мыслей.
И изощренный глагол «подсвербливает» ее совершенно не волнует. Ведь на самом деле – не свербит, а именно подсвербливает. Обозначено безупречно, а ее волнуют только напряженные абстракции: вроде быть-стать-есть-идти…
Она не терпит чужого резонерства, это – только ее епархия.
__________________________
Любаша обожает вместе с бабушкой купать меня, вполне повзрослевшего для осознания невеликого тела – как собственного, мальчикового, неотъемлемого. Во мне, в самой глубине ведь уже проснулось липкое чувство стыда. Но ко мне относятся во время этой необходимой процедуры с такой любовью, что мне делается моего стыда стыдно. Под их «купы-купы» я инстинктивно слабею, хочу свернуться калачиком и улечься в таз в околоплодные мутные воды.
Бабушка чувствует что-то. И поворачивая меня к себе, инстинктивно заслоняет, и Буся выглядывает и заигрывает со мною из-за ее надежной спины. Поэтому женские взгляды, гуляющие по мне, смешиваются на моей мокрой эпидерме как пряжа, и к концу купания я становлюсь одетым в их долгие шарящие по мне зрительные волокна.
Я, расслабляясь, поддаюсь их гипнозу.
Их гулищие голоса сплетаются в сплошную теплую скользоту, делаются ласковым духом мылкой земляники, безупречным мочалом, нежащим меня. Спутанным голосам этих двух женщин невозможно развязаться.
Буся бывает так счастлива, если ее приход совпадает с днем моего купания. И банальное слово «купание» мне хочется заменить на торжественное – омовение.
Ей так нравилось подливать в корыто обжигающе горячую воду – кружку за кружкой. Осторожно-осторожно. Помешивая. Нежно смотреть на меня.
И я из той поры запомнил ее скользящий по мне теплый, но не в смысле сочувствия, а именно температуры, немного выше моей, помывающий скользкий взор ее темных, почти черных очей. Я никогда – ни в детстве, ни в отрочестве, ни в юности не мог различить ее зрачков, затопленных темной радужкой.
Она так упоена своим занятием, что голос ее уходит в отдельную несопрягаемую с ритуалом сферу.
– А щас как покупаем, как покупаем, как сынуленьку нашего накупаем, – лепетала в сладком забытье Любаша.
Пока бабушка не выговорила ей строго и даже зло:
– Ну какой он тебе, Любуся, скажи-ка мне на милость «сынуленька». Никакой и не сынуленька.
Не думаю, что ею, бабушкой, тогда овладела ревность. [38]
Но распаляясь, она продолжила свою тираду непозволительной фразой, вышедшей из ее недр, граничащей со святотатством, к чему, надо отдать ей должное, сама была весьма чувствительна.
Она осеклась чуть раньше, чем из ее узких строгих губ излились жестокие слова:
– У него же, и ты это прекрасно и знаешь, Любовь, есть своя собственная и покойная мать.
Но на «и покойная» она мгновенно прижала жменю ладони к губам, прихлопнув свою речь. Как вьюшку печи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу