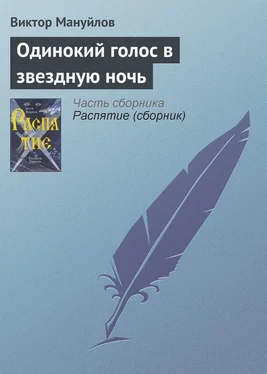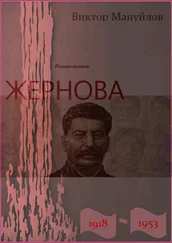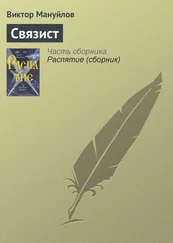— Здоровенько живешь, дядь Миш, — приветствовал писателя паренек, протягивая руку.
— Здорово, казак, — произнес Шолохов хриплым спросонья голосом, пожимая руку мальчишке. — Так что от меня требуется? Сами там, что ли, решить не могут?
— Поезд будет в шешнадцать часов, дядь Миш. Дядька Ульян спрашивает, запрягать али нет? Али ты пошлешь свой автомобиль? Али сам поедешь встречать?
— Пусть запрягают и гонят в Миллерово, а то опоздают. Сто шестьдесят с лишком километров — не шутка. А мой автомобиль и пяти километров не проедет: застрянет в каком-нибудь просове. Дорога-то еще не просохла.
— Вот и я про то же самое говорю дядьке Ульяну. Автомобиль — он же только по сухому приспособлен ездить. Это тебе не трактор. А дядька Ульян сумлевается… А скажи, дядь Миш, что, Сталин-то, уже не генеральный секретарь?
— Кто тебе сказал?
— Как же! В телеграмме прописано, что едет генеральный секретарь товарищ Ставский. Може, фамилию неправильно прописали? Може, сам товарищ Сталин к тебе в гости наладился? Или как?
— А-а, вон ты о чем. Нет, парень, это совсем другой генеральный секретарь. Сталин — во! — вскинул Шолохов руку над головой, а Ставский — вот, — опустил он ладонь ниже бедра. — Зато гонору — выше облаков… Ну, беги, а то не успеют.
— Бегу, дядь Миш. Успеют. Поезда-то завсегда опаздывают.
— Ладно, беги. Калитку я сам закрою.
И Шолохов, спустившись с крыльца, подошел к калитке, светя фонарем, прислушиваясь, как посыльный, проскользнув в калитку, топотит по дороге большими, не по росту, сапогами. Вскоре опять возник собачий лай, и долго было слышно, как этот лай катится по станице, все удаляясь и удаляясь.
Закрыв калитку, Шолохов присел на лавочку и, достав из кармана кисет с трубкой, принялся набивать ее табаком, думая о том, зачем Ставский направляется к нему, и почему именно Ставский, а не кто-то другой, если иметь в виду письмо, посланное Сталину с просьбой разобраться с неправыми арестами вешенских коммунистов, с пытками арестованных и прочими безобразиями?
И тут он впервые обратил внимание на это созвучие: Ста-лин и Ста-вский. И представил себе, как некий Кирпичников когда-то ломал себе голову над псевдонимом, как хотелось ему выбрать что-нибудь вроде Стальский или даже Сталинский, но он испугался слишком откровенного намека и остановился на нынешнем: Ставский. Боже мой, до чего же иногда люди низко падают, желая возвыситься!
По краю густо-ультромариновой чаши небосвода пронесся среди множества равнодушных звезд метеорит, таща за собой длинный тающий след, и беззвучно погас, не долетев до земли.
Шолохов, потушив фонарь, сидел, курил, привалившись спиной к доскам забора. Ночь была безлунной, темной, хоть глаз коли, но эта темнота полнилась таинственной жизнью: сверху серебряной монетой сыпались свисты и звоны летящих на юг чирков и куликов, с Дона доносились похожие на вздохи всплески жирующей рыбы, сонное гоготанье спящих на берегу гусей.
Сколько раз видишь и слышишь одно и то же, и всякий раз поражаешься повторяемости наблюдаемой человеческим оком бесконечности одних и тех же будто бы неизменных процессов и до боли короткой человеческой жизни, которую еще и укорачивает сам же человек в стремлении властвовать над другими, в своей ненасытности. И при скифах наверняка было то же самое, и при монголах, и еще раньше. И так же падали звезды, и лилась кровь, и кто-то смотрел в небо, и так же изумлялся и звездам, и себе самому. И всегда это должен быть человек зависимый, но дерзкий, восстающий против косности существующих порядков. Владыкам на небо смотреть ни к чему, их взгляд упирается в земное.
Шолохов запрокинул голову. В этой наполненной таинственными звуками сонной тишине не хотелось думать об обыденном. Тишина и наполняющие ее звуки говорили о неизменности мироздания, о мелочности человеческих страстей. Тишина убаюкивала. Не верилось, что в это же самое время где-то в темных казематах под ярким светом ламп мучаются его товарищи, которых заставляют признаться в поступках, которых они не совершали, в мыслях и намерениях, которые были им чужды и непонятны.
Несколько дней назад ему, Шолохову, передали записку на папиросной бумаге от арестованного одного из семи членов Вешенского райкома ВКП(б) Красюкова, в которой он рассказал, каких показаний от него требуют следователи и какими методами их добиваются. В том числе и о будто бы известной им неблагонадежности писателя Шолохова.
Как же эта убаюкивающая тишина и эти звезды, усыпавшие темное небо, и темные груды деревьев, недвижно висящие в вышине, точно далекие ночные тучи, — как же это все не вяжется с тем, о чем поведало ему тайно пересланное письмо человека, в честность которого он верит безгранично, письмо, которое предупреждает его, что вынести такие пытки и издевательства сможет далеко не каждый.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу