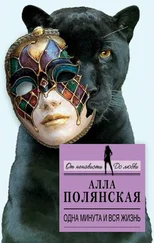Со всех четырех сторон усадьба обнесена невысокой стеной, утыканной через каждые три метра прочными бетонными столбиками. Между столбиками натянута колючая проволока в густой камышовой оплетке. Вправо и влево от домика, ощетинившись железными шипами, разбегаются высокие стены. В конце правой стены — обшитые железом ворота; в конце левой — небольшая дверь, тоже в железном чехле. Рядом с воротами зияет пасть гаража. Правда, вместо положенного автомобиля в гараже обосновался обрезанный баркас с палубой на носу, корме и вдоль бортов, приспособленный для парусных гонок. Испытанное средство для морских прогулок покоится на бетонном полу вдали от родной стихии, накренившись на правый борт так, словно летит по пенистым волнам под скрип парусов. Но ныне баркас недвижен, разоблачен, и его больше не омывает соленая вода. Иногда я пододвигаю к самому порогу Уголка кресло и часами неподвижно смотрю на выступающий из полутьмы гаража нос отставного баркаса. Я пытаюсь представить, как он вдруг тронется с места, заскользит голубым килем по песчаному карьеру, где днем резвятся дети и жарятся на солнце сверкающие моржовым глянцем купальщики, и устремится дальше — мимо домиков и двух проселочных дорог, мимо ворот, сада и соснового бора. Но тут я замечаю на носовой палубе обрубок мачты и понимаю, что эта отчаянная вылазка стоила бы баркасу огромных усилий и даже мук.
Чтобы понаблюдать за сосланным в гараж баркасом, я выбирал самое удобное кресло. Высокое, массивное, обрамленное резным лакированным деревом. Стеганая спинка кресла походила на щит, усеянный выпуклыми шишечками-сосками, наподобие торса многогрудой Дианы Эфесской. Мясистое сиденье было продавлено по форме ягодиц. Внушительные подлокотники пучились от щедрой набивки, обтянутой розовой тканью в красный цветочек, — точь-в-точь как кожа гигантского младенца, больного краснухой. По внешнему сходству с томной распутницей, развалившейся на диване борделя в ожидании посетителя, я назвал это кресло Лулу. Я надеялся, что мы окажемся добрыми друзьями, но вскоре вынужден был изменить свое мнение. С некоторых пор я остерегаюсь попадать в объятия Лулу. При соприкосновении с моим телом Лулу начинала распаляться. Железные пружины ее внутренностей охватывала дрожь. Набивка раздувалась, как женская грудь от любовной ласки. Подлокотники сжимали мне бока и бедра. В последний раз понадобилось яростное усилие, чтобы высвободиться из ее объятий. Я чуть было не задохнулся. И слышал при этом умильный зов на венецианском наречии, вырывавшийся из ее беззубых десен: «Миленочек… Миленочек ты мой… Я ж тя чмок-чмок… я ж тя кус-кус… я ж тя ням-ням…» Пылая от стыда и ежась от отвращения, я выбежал в сад и опрометью бросился в гараж. Не меньше часа простоял я в этом убежище, прислонившись к щеке баркаса. С трудом переводя дух, я пытался собраться с мыслями. В то же время я наслаждался нелепым, феерическим зрелищем, которое представлял из себя со стороны: лысый и седой, ни дать ни взять Дафна, преследуемая Аполлоном. С тех пор я держусь от Лулу подальше. Смотрю на нее только в профиль. И боюсь, как бы она не бросилась на меня. А то, чего доброго, вздыбится на задних колесиках да как кинется… Если уж надо пройти прямо перед ней — обхожу стороной. И сажусь теперь только на деревянные стулья. Жесткие, твердые, тощие. И выбираю самые тощие, твердые, жесткие. Чем стулья жестче, тверже, тощее, тем безопаснее для меня их половые рефлексы.
Первой моей мыслью было бежать из этого домика, в котором меня подстерегают неведомые опасности да и вообще дело, кажется, нечисто. Но это не в моих силах. Никто открыто не принуждает меня оставаться, никто не мешает выходить, когда мне заблагорассудится, из этой домашней чащобы, заключенной в пояс верности, словно жена рыцаря, и все же я чувствую себя пленником. Чувствую остро и безошибочно. Под неусыпным оком невидимых тюремщиков, во власти необъяснимых сил.
И только во сне это наваждение рассеивается. С тех пор как я здесь — негласный, но фактический пленник, — словно в отместку мне снятся сны о свободе. О свободе и о любви. Прошлой ночью мне приснилось, что я совокуплялся с великаншей. Огромной и безымянной; неподвижной и поистине исполинских размеров. Нечто вроде розового младенца величиной с гору, щедро наделенного женскими прелестями. Или абсолютной чемпионки всего человеческого рода, застывшей в телесном безмолвии. Ее ляжки напоминали колонны; груди вздымались, словно два мягких холма, попеременно отдававших мне свое тепло; гигантские ступни упруго и горячо упирались мне в лицо; раскатистый, бурлящий смех клокотал, как неудержимый речной поток. Самое свободное совокупление — до, во время и после, — которое я когда-либо совершал. Прибавлю сюда и мое волнение. Нежнейшее волнение. Волнение, какого никогда не испытать с другой женщиной, сливающейся со мной не только телом, но и душой. Насколько сильнее это волнение, насколько глубже смысл невинности! Ибо то, что мы называем душой, есть дуновение зла внутри нас; там же, где нет зла, нет и души.
Читать дальше
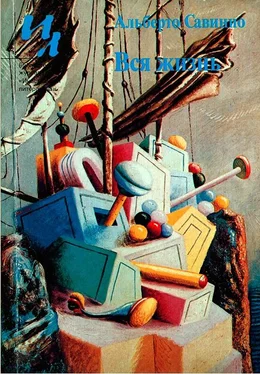
![Роберт Рождественский - Не надо печалиться, вся жизнь впереди! [сборник]](/books/32398/robert-rozhdestvenskij-ne-nado-pechalitsya-vsya-zhizn-thumb.webp)